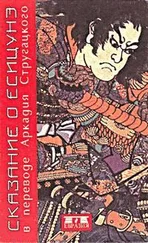- Ах, какое блаженство! - почти простонал он, поворачиваясь ко мне всем телом, а заодно и лицом, таким близким сейчас, что я, к своей досаде, не могла его разглядеть, - честно говоря, с детства не переношу метро… Ах, блаженство!..
«Как я вас понимаю!», хотелось крикнуть мне, - но профессор, вдруг сделавшись глух к моим эмоциям, как тетерев на току, в своей монотонной, размеренной манере уже повествовал - то ли мне, сидящей рядом, то ли окружившей нас недружелюбной аудитории, то ли самому себе - о своей жуткой фобии: он панически боится помпезного подземелья, всякий раз, что он спускается туда, ему кажется, что массивный потолочный свод, грозно возвышающийся над головами ничего не подозревающих граждан, вот-вот треснет и со страшным грохотом обрушится вниз - и он, почтенный профессор, автор множества научных трудов и монографий, навеки останется погребенным в угрюмых земных недрах. Не что иное, как страх смерти, в сущности… Сказав так, он вдруг насупился и замолчал, - видно, мысль о смерти пришла ему на ум не впервые и угнетала его всерьез. Образовавшаяся пауза позволила мне (хоть робко и сбивчиво, но все-таки!) ввернуть, что мы и раньше уже встречались - нет, не на факультете, и не в прошлой реинкарнации, и даже не в виртуальной реальности, а у него дома, много-много лет назад: пусть вспомнит забавный случай с бюстиком Ильича…
- Так это был ваш дядя?.. - растрогался профессор. Он, оказывается, прекрасно помнил студента Антипова. Имя очень редкое - Оскар; и сам его обладатель тоже был, кажется, немного странным. Он, профессор, называл его про себя «Оскар Уайльд». Ха-ха.
Так, за светской беседой и забавными воспоминаниями об общих знакомых подъехали, наконец, к памятнику Грибоедова, - и тут Влад, вспомнивший, наконец, кем я ему прихожусь, соблаговолил поинтересоваться моими «успехами»; узнав горькую правду, которую я теперь, как бы на правах давней приятельницы, могла от него не скрывать, он в притворном ужасе округлил глаза:
- Так что же вы молчите, Юлечка?! Сегодня же после занятий - бегом ко мне, мы с вами эту проблему как следует обсудим и решим! Ну, вы примерно представляете себе, где мой кабинет?.. Нет?! Как же это вы так?! Короче - четвертый этаж, дверь прямо рядом с женским туалетом, не ошибетесь...
До сей поры я только слышала о непомерном шике «четвертого», захаживать же сюда (именно по этой причине) робела, - и в первый миг оккупированное «Психеей» пространство - узкое, бестеневое царство ослепительно-белых поверхностей, сплошь залитое холодным ядовитым сиянием крохотных галогеновых ламп, встроенных плотным рядком не только в потолке, но и в полу - напугало меня своей претенциозностью. Но, пройдя дальше по коридору, я увидела скромную, непрезентабельную, изжелта-серую дверь без таблички, каким-то чудом ускользнувшую от евроремонта и арендаторов; за ней-то - когда я несмело вошла на радушное «Да-да!» - и обнаружилась Калмыковская келья. Совсем крохотная, что-то вроде лаборантской в кабинете анатомии, она - отдадим ей честь - была прекрасно оборудована для повседневной жизни: имелась тут и раковина, которую профессор стыдливо замаскировал ситцевой, синей в красный цветочек портьерой, протянув под потолком металлическую струну; кроме обширного «рабочего» стола нашелся и низенький, грубо сколоченный столик, который смело можно было назвать «кухней» - на нем умещалась вся необходимая для готовки утварь - от электрического чайника (вмиг огласившего кабинет уютным шипением!) до портативной плитки; был и холодильник «Саратов», маленький, но емкий… словом, Влад, похоже, нарочно устроился так, чтобы по возможности меньше зависеть от внешнего мира.
В дальнем углу скромно притулилась сложенная раскладушка - старенькая, брезентовая, точно как у нас дома. Перехватив мой взгляд, Калмыков добродушно улыбнулся - и пояснил, что порой, когда заработается, остается в здании ночевать.
- Жена не сердится? - не без тайного умысла спросила я. Но профессор меня успокоил: он, оказывается, вот уже восемь лет тому, как овдовел, - а его сорокапятилетней дочери Маше и двадцатитрехлетней внучке Верочке, живущим, по счастью, отдельно, хватает и своих проблем, чтобы они беспокоились еще и о том, где проводит свои ночи старый патриарх.
- Никому-то нет дела до старика, - добавил он с лицемерной гримасой, которая не слишком-то ему шла; может быть, именно из-за нее-то я и не решилась сказать ему, что в этом жестоком мире есть еще как минимум один человек, которого жизнь профессора очень даже интересует.
Читать дальше