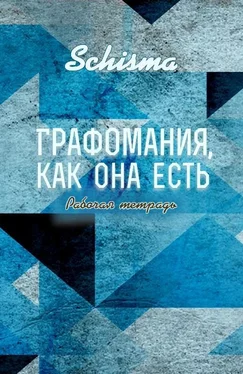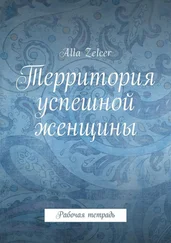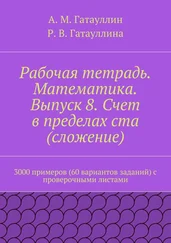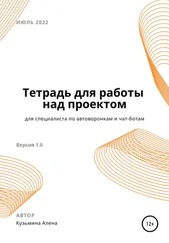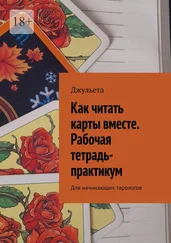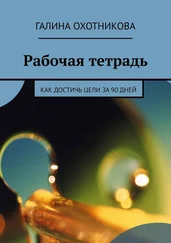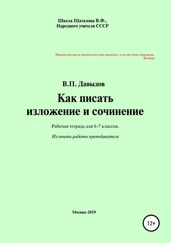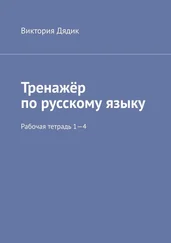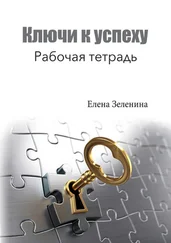Почему в мир Толкиена погружаешься ? Да потому что вот этот нескончаемый мотив шизовых песен без авторов и возраста проходит через всего «Властелина колец» — от первой и до последней страницы. И можно любить этот мир или не любить, но он есть. Ага, это адски сложно, развивать народное творчество своего мира. Но согласитесь, такая, выражаясь языком журнала «Главбух» (не к ночи будь помянут), инвестиция может принести совершенно чумовые дивиденды.
Сказки. Одна (прописью: одна-единственная) короткая бытовая «народная» сказка придаст вашей галиматье такую харизму, что вы потом замотаетесь от неё отмахиваться. Я уж не говорю о том, что каждый уважающий себя фэнтезист должен держать деда Проппа в красном углу и ежевечерне возносить ему осанну. Зачем? Затем, чтоб в тот момент, когда вам понадобится воткнуть в роман волшебную сказку — такую, чтобы читатель сразу узнал в ней сказку народную, — у вас не возникло проблем с её сочинением. Зачем? Да затем, чтоб главному герою не пришлось беспрерывно жрать и пить. А ещё волшебные сказки чудо как хороши в устах главгера, если он останавливается на ночлег у молодой мамаши. Тут тебе и объём мира и образ главного героя, и едва ли не завязка новой сюжетной линии в одном флаконе.
Легенды. С легендами у современных фантастов и фэнтезистов получше, чем со всем остальным фольклором, но вот легенды-то как раз — это не главная составляющая народного творчества. Легенда — вещь местечковая, актуальная только здесь (всеобщие легенды — больша-ая редкость в общем объёме легенд). Вот их-то, наоборот, надо только туда включать, где без них не обойтись, где они либо сюжет двигают, либо настроение создают, либо образ раскрыть помогают.
Считалки, загадки, поверья-суеверия. Вспомните «Приключения Тома Сойера»: «Бук-букашка, расскажи, что хочу знать». Ага, не высунулась — значит, ведьма пошуровала. Всё — перед нами уже целый пласт культуры, и мы уже чуть ли не собственными глазами видим эту полуграмотную армию мальчишек и девчонок, населяющих Америку. Один городишко, один мальчик, одна фраза — и вот он, мир во всём своём идиотизме. Марк Твен вообще виртуозно обращался с фольклором, читайте.
Ругательства, дразнилки, подковырки и всевозможные поминания всуе. Они могут служить для создания индивидуальных речевых характеристик, это верно, и это их главная роль. Но кто вас заставляет всё время кастрировать их богатейшие (не побоюсь этого слова) возможности? Они ведь могут не только индивида предъявить, с их помощью можно непринуждённо указать и на социальный статус, и на национальность персонажа, и даже на местность, из которой он родом, и даже на топографические признаки этой местности. Можно сказать: «Разбежался!» и дальше пойти. Но ведь можно сказать и: «Экий сам-рассам! Разбежался по лесам!» Есть разница? Не-ет, ребята, она не только в индивидуальном характере говорящего. Она прежде всего — в характере народном. Вторую фразу ни чиновник, например, ни рыцарь, ни даже просто буржуа не скажут. Эта фраза — деревенская. Горожанин уже в втором поколении её употреблять не станет (кроме младших школьников), она слишком протяжная для города.
Обряды как таковые. Как ваши герои жнут? Как они собирают виноград? (Или у вас вино волшебным образом из глиняных горшков получается? Тогда как они освящают волшебный гончарный круг?) Как они зимние праздники справляют? У вас ведь зимы в книгах днём с огнём не сыщешь, такое впечатление, что вечное лето — и когда земля отдыхать успевает?! Ладно, очень худо и очень бедно, но вы хотя бы в общих чертах научились показывать «нидеццкие» ритуалы (типа «кровь-пролить-и-чтоб-все-посуровели»), а сельскохозяйственные-то праздники где? Или то, что ваши герои едят, произрастает непосредственно на столах (как вариант — на кухне)? Вы жалуетесь, что в ваших книгах нет мира, а откуда ему взяться, если вы его загнали на такие задворки, куда даже Беллинсгаузен и даже на ледоколе не допрёт, родись хоть завтра?
И это я ведь ещё не всё назвала, потому что там, дальше, пойдёт лубок, пойдут детские игрушки (вроде ваньки-встаньки того же), тетёшки («По кочкам, по кочкам…»), потешки («Ехала деревня мимо мужика…»), мнемонические формулы… Я всего и не перечислю, при всём желании.
Роль фольклора в романе (в том романе, где фольклор вообще уместен) переоценить невозможно. Мир, который нам предстаёт в фольклоре — это и есть тот мир, который мы ищем в книгах, от которого получаем наслаждение, который создаёт у нас иллюзию присутствия вселенной и который, собственно, мы и называем миром. Не исторические события, не численность пехоты во время продвижения от Амура до Фритюра, не количество добытой нефти — это всё просто информация. Образ информацией не создаётся, он создаётся только движением, а проекция движения мира на систему символов — это и есть фольклор. Он и детский, и военный, и ремесленный, и женский, и крестьянский, и студенческий — большой и очень-очень могучий. Но чтобы ввести в произведение фольклор, надо показывать не только этих ваших дебилов с мечами наперевес и халдеев всех сортов, а именно народ. То есть трудовых людей. Без труда фольклора не бывает. Аристократическая среда чужда фольклору.
Читать дальше