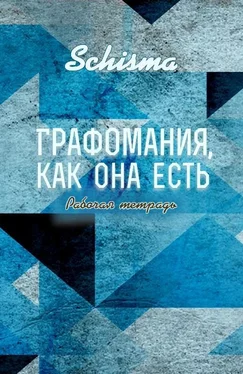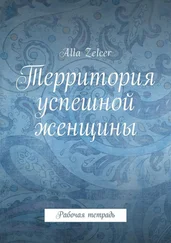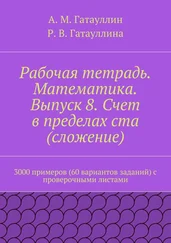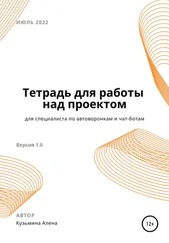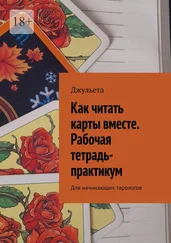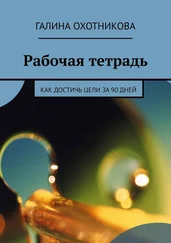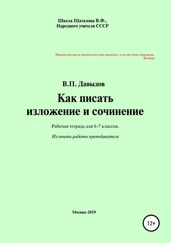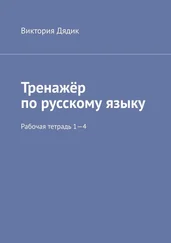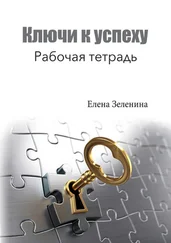Мышление в глобальных масштабах до добра не доводит.
Я не хочу сказать, что авторам надо бросить описывать глобальные процессы, происходящие в их мирах. Не надо, не в этом дело. Дело в том, что ситуация, когда за лесом не видать ни единого дерева, так же кондова, как и обратная. Да, за деревьями лес должен хотя бы угадываться. Но деревья, вообще-то, первичны.
«Почему мой мир так плосок?» — спрашивает автор. Он, вроде бы, всё предусмотрел: с севера армия атакует, с юга отступает, с запада поднимается авиация, из недр тащат нефть, составы уходят на восток… а мир всё равно плоский. Герои — не плоские, а мир — плоский. Почему?!
Потому что нет деревьев, есть только лесной массив. Да, на фоне этого массива мелькают яркие пятна — персонажи, но массив не становится от этого ярким и красочным. Давайте посмотрим, из чего этот массив складывается.
Кто-нибудь может назвать на вскидку книгу, в которой присутствует хоть одна народная (народная, повторяю, а не индивидуальная) примета? «Думаем, товарищи, думаем». Вы посмотрите, какая это потрясающая деталь: грудь чешется — милка вспоминает! Можно придумывать полностью оригинальные приметы (если хватает знаний), можно заимствовать, а можно и создавать свои на базе имеющихся, но, внедрённая в ваш текст, примета немедленно создаст кусочек объёма, потому что даже незначительная частичка фольклора — это уже пусть слабые, но корни, пусть туманная, но история, пусть едва различимая, но традиция; это всё, что было до того, как началось ваше повествование.
Я догадываюсь, почему многие писатели, вроде бы не пытаясь отказаться от создания мира, тем не менее пренебрегают фольклором. Это довольно утомительное занятие, выписывать фольклорный свод — логичный, непротиворечивый и правдоподобный. В глубине души каждый писатель понимает, что в его книгу войдёт хорошо если десятая часть придуманного им фольклора — а куда девать остальное? Жалко времени, жалко нервов, жалко просто выбрасывать наработанное.
Тем не менее, лучшего средства предъявить читателю мир никто ещё не выдумал. Почему? Потому что как реальный, так и книжный мир — это всегда и в первую очередь народ. Исключения, безусловно, есть (да, бывают книги, в которых образ мира создаётся иначе), но для большей части книг этот тезис правомерен. Мир — это народ. И показать мир вы можете наилучшим способом, только предъявляя читателю народ в его естественной жизни. В том числе, кстати, используя приём умолчания, но это уже тема для отдельного разговора.
Какие песни поют на крылечках по вечерам персонажи ваших романов? Ну или какие песни они слушали в детстве: в колыбельках, в поле, в школе? Они же у вас в школу ходили? Ходили. Значит, явно имели представление о школьном фольклоре. Может быть, даже сами его развивали каким-то образом.
Тут, наступая собственной песне на горло, я ткну пальцем в «Гарри Поттера» и снова скажу: вот мир, который развлекает. Почему? Да потому, милые мои, что он фольклором обвешан, как ёлка гирляндами. Вот вам — ответ на вопрос о том, почему миллионы мирных граждан могут сходить с ума даже (да простят меня поклонники ГП) от совершенно бездарной книжонки. Плевать на картон, плевать на схемы, плевать на всё остальное — там мир. Там народ во всей его полноте — от младенцев до стариков.
Говоря о фольклоре, я не имею в виду вымышленные языки и вымышленную терминологию (скорее наоборот, авторская терминология и языки книжных миров по-настоящему удаются очень редко, и это совершенно отдельный разговор). Говоря о фольклоре, я имею в виду только собственно фольклор, устное народное творчество и приметы традиционной культуры.
Что сюда входит?
Поговорки, пословицы, присказки, фразеологизмы, диалектизмы (да, вот этот случай, пожалуй, единственный, когда я апеллирую собственно к лексике: диалектизмы — это, очень грубо говоря, указание на географические координаты вашего мира, рассказ о том, насколько далеко простирается этот мир).
Частушки. В студию хоть одну фантастическую или фэнтезийную книгу, где есть оригинальная авторская частушка, созданная с учётом реалий книжного мира и на основе этих реалий. Может быть, я проглядела, и не исключено, что проглядела много, но вот что-то не припоминаю в современных книгах оригинальных частушек. PS. Олди не предлагать, в «Чёрном Баламуте» откровенно русские, а тем более едва ли не современные мотивы смотрятся, как коровы на льду.
Песни. Для любого фэнтезийного мира оригинальная, а тем более обрядовая или колыбельная песня — это, считай, полдела. Герой приходит в кабак, садится и начинает жрать, а вокруг в лучшем случае «поют». Что они «поют»-то, аффтар? «Вставай, страна огромная…»? Герой приезжает в деревню, а там в доме лежит покойник, и рядом «воют бабы». «Люди, вы — звери». «Вой», чтоб вы знали, — это название специфического речитатива над гробом, а не тупой рёв в три ручья. У воя, помимо слёз, ещё и слова есть, поэтому так и ценились бабы-плакальщицы: они знали, что именно «выть». Вот я и спрашиваю: что они у вас воют-то? Ау-у-у?
Читать дальше