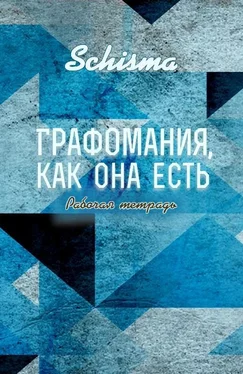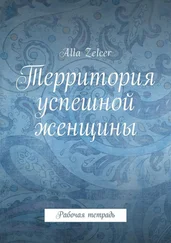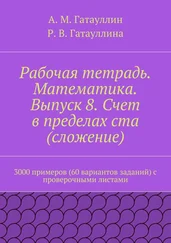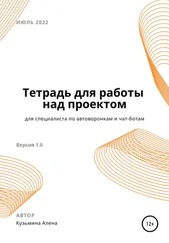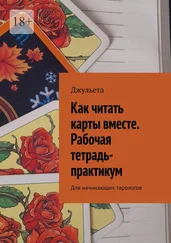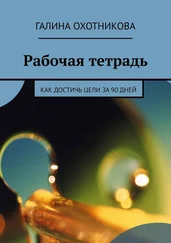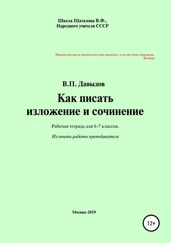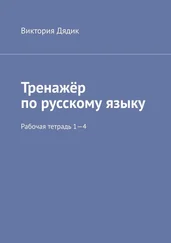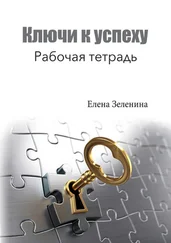Вот теперь, когда вы действительно прочли произведение, мы будем о нём разговаривать. Да, всё это время вы произведение не анализировали. Вы его на самом деле — читали. Первое прочтение вам понадобилось для того, чтобы получить о «Песне…» комплексное впечатление. Второе прочтение обеспечило вам возможность ответить на вопрос о смысле «Песни…» Наконец, третье прочтение позволило вам легко ориентироваться в тексте этого произведения.
Итак, «Песню о Буревестнике» вы прочли, и мы будем о ней говорить. В контексте визуализации образов, да. Очень коротко, буквально тезисами. Если нам придётся вернуться к «Песне…», чтобы поговорить о ней в ином контексте, вы обязаны будете прочесть её снова. Нет, не «С какой стати?!» и не «Да я её наизусть помню!», а вот именно так. С каждой прожитой минутой вы всё более и более станете отдаляться от того человека, который впервые прочёл «Песню о Буревестнике». И с каждой прожитой минутой вам всё сложнее будет оперировать теми же категориями, которыми оперировал тот человек. Всё, что у вас останется уже через полгода, — это память о первом впечатлении (именно память о нём, но не само впечатление) и, возможно, лёгкость ориентации в тексте. Прочее всё время будет подвергаться переосмыслению, и таким образом, вы обязаны будете перечитывать «Песню о Буревестнике» всякий раз, как вам понадобится серьёзно поразмыслить над ней. Теперь переходим к собственно разговору об образах.
Вы уже, наверное, обратили внимание на то, что произведение насыщено буквально огромным для столь малого объёма количеством визуальных образов. Вы как будто видите всё воочию: и эти иссиня-чёрные тучи, и грозное море, и этих суетливых, испуганных птиц, и взрывы прибоя о скалы… и, разумеется, самого одержимого Буревестника. Вы всё это видите.
Однако сказать, что поэт рисует нам картинку, нельзя. Никаких картинок поэт нам не рисует: начисто лишённый телевидения и даже синематограф воспринимавший как диковинку, поэт в пору написания «Песни о Буревестнике» не имел возможности заимствовать у кинематографии её принципы взаимодействия с аудиторией (тем паче, что и сами-то принципы тогда ещё не были в полной мере осмыслены). Оперировал поэт не картинками, а образами, но эти образы получились настолько яркими, живыми и плотными, что все возможные картинки мы без труда дорисовываем сами.
В чём тут дело? Скорее всего, вы уже и без меня это заметили, я лишь сформулирую ваши наблюдения и выведу их к тому уровню абстракции, который позволит вам экстраполировать полученные знания на любой, без исключения, результат человеческого творчества. Знания, которые можно экстраполировать на что-либо, отвлечённое от контекста, из которого они изъяты, называются фундаментальными (то есть основными, главными). Это на самом деле очень меткое определение, поскольку такого рода знания дают вам платформу для практически любого вида деятельности.
Итак, в чём же секрет создания А.М.Горьким живых, зримых и динамичных образов, таких образов, которые не тускнеют и не стираются даже под грузом целого столетия?
1. Поэт вкладывает в каждый свой образ мысль, которая у него — есть. Мысль — это первая степень свободы. Это то, что делает нас собственно свободными, то есть позволяет нам выбрать наиболее интересную, с нашей точки зрения, цель;
2. Поэт ясно понимает всё происходящее в ходе событий, которые он живописует, и уверенно ориентируется в развитии общей картины. Именно поэтому в его «Песне…» ни один образ не лишний и не смотрится аляповатым или блёклым. Понимание контекста — это вторая степень свободы. Это то, что позволяет нам выбирать для достижения своих целей наиболее адекватные инструменты.
3. Поэт не боится, что на его стиль могут навесить какой-нибудь ярлык (скажем, «пафосный» или «высокопарный»). Он не боится так же выглядеть смешным или пошлым, или излишне восторженным. Он спокойно и уверенно называет вещи своими именами, абсолютно справедливо полагая, что слова — это всего лишь инструменты исполнения его воли, а значит стесняться или презирать их просто глупо. Его цель не в стремлении предъявить палитру изобразительных средств и не в том, чтобы произвести впечатление на читателя, а в выражении своей мысли; таким образом, он не подменяет средством цель. Правильное отношение к инструментам — третья степень свободы. Это то, что даёт нам возможность концентрироваться на цели, а не на средствах.
Читать дальше