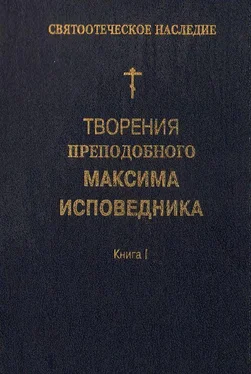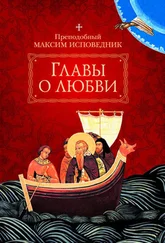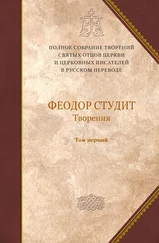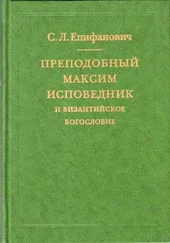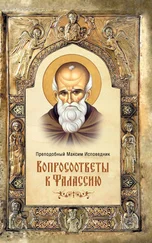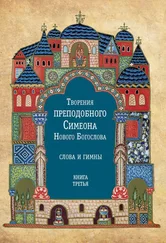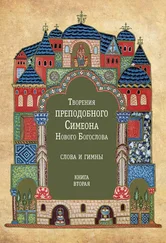Примечательно, что Псевдо-Кесарий, автор конца V — начала VI вв., соединяет это место Св. Писания с 1 Кор. 11 («Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром»), и тем самым смысл его обретает объемность и глубину. См. Pseudo-Kaisarios . Die Erotapokrisis. Hrsg. von R. Riedenger. B., 1989, S. 44.
Слово πόνοςв данном случае целесообразно переводить так, хотя чаще оно переводится как «труд». Оба смысловых оттенка слова неразрывно связаны.
Типология Адама-Христа, ясно намеченная св. Апостолом Павлом (Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:21–22 и 45–49), получила развитие в трудах многих отцов Церкви и прежде всего св. Иринея Лионского, у которого она сопрягалась с указанной выше идеей «возглавления» (см.: Nielsen J. Т. Adam and Christ in the Theology of Irenaeus of Lyons. Assen, 1968, p. 11–23). Причем св. Иринея интересует «преимущественно реально-мистическая (метафизическая) параллель между нашими отношениями к первому Адаму, источнику смерти, и второму Адаму, источнику жизни, а не собственно антропологическая проблема о психологической зависимости нашей греховности от греха Адама. Он склоняется к мысли, что мы унаследовали от Адама собственно не греховность в смысле антропологического извращения природы, а лишь смерть, в смысле метафизического принципа ее порчи» ( Орлов А. Христология Илария Пиктавийского в связи с обзором христологических учений 2–4 вв. Сергиев Посад, 1909, с. 8–9). Этот же реально-мистический (метафизический) аспект нашего отношения к Адаму и к «новому Адаму» — Христу характерен вообще для восточной святоотеческой мысли и для преп. Максима, в частности; почти все отцы Церкви подчеркивают, что Слово (Логос) добровольно восприняло смертное, тленное и падшее человечество (но не грех), которое, однако, не было чисто пассивным «орудием» Логоса, поскольку человечество Христа обладало свободной волей (см.: Meyendorff J. New Life in Christ: Salvation in Orthodox Theology // Theological Studies, 1989, vol. 50, p. 492–499; Idem . Christ’s Humanity: The Paschal Mystery // St. Vladimir’s Theological Quarterly, 1987, vol. 31, p. 29–30). В этой главе преп. Максим также указывает на данный свободный акт человеческой воли Господа (Он «рассек» наслаждение), которая служит образцом для нашей свободной воли.
Выражение θεὸς πάσχει σαρκὶ, γενόμενος ἄνθρωποςслужит как бы ключом к решению проблемы «теопасхизма», занимавшей умы христианских богословов на протяжении нескольких первых столетий истории Церкви. Для всех отцов Церкви было само собой разумеющимся, что Божественная природа (или Божество — ἡ θεότης) Христа осталась непричастной страданиям, ибо она — «бесстрастна». Это, например, четко выразил св. Иоанн Дамаскин, утверждающий, что Божество было соединено с плотью, которая страдала, но Само осталось бесстрастным. В то же время, многие отцы (преимущественно александрийского направления) считали возможным говорить о «страдающем Боге», исходя из принципа «взаимообщения свойств» (communicatio idiomatum). Так, св. Григорий Богослов высказывался о «Боге воплотившемся и умерщвленном» ( θεοῦ σαρκουμένσυ καὶ νεκρουμένου), о «крови Бога» ( αἵ μα θεοῦ) и «распятом Боге» ( θεὸς σταυρούμενος). Аналогичные высказывания часто встречаются у св. Кирилла Александрийского и др. Они вызвали оппозицию со стороны представителей антиохийской школы (Диодора Тарсийского, Феодора Мопсуестийского и т. д.). Конфликт двух направлений в христологии был решен соборным разумом Церкви на V вселенском соборе в пользу александрийского направления, к которому и принадлежит в основном преп. Максим. На латинском Западе к этому решению относились (а иногда и сейчас относятся) весьма сдержанно. Согласно же православному пониманию, мы, говоря «Бог пострадал во плоти», исповедуем то тленное состояние человеческой природы, которое Бог Слово и пришел спасти, восприняв ее в том положении (за исключением греховности), в котором она находилась после греха. См.: Meyendorff J. Christ in Eastern Christian Thought. N. Y., 1975, p. 68–89; Chene J. Unus de Trinitate passus est // Recherche de Science Religieuse, 1965, t, 53, p. 545–588.
Фразу ᾧ τὸ συμπάσχειν, βασιλείας πρόξενον γίνεταιможно понимать и в том смысле, что Бог самим актом Своего «сострадания» делается для нас «гарантом» будущего Царства Небесного.
В этой главе преп. Максим, по сути дела, ведет речь о терпении — постоянной теме аскетических писаний. К примеру, можно привести созвучное этой главе высказывание преп. Петра Дамаскина: «Ибо нам необходимо или здесь бедствовать телесно и царствовать мысленно со Христом, в нынешнем веке, ради бесстрастия, и потом в будущем; или отпасть [от Бога] по страху искушений... и пойти в вечную муку, от которой да избавит нас Бог, чрез терпение бедствий здесь» (Творения преподобнаго и богоноснаго отца нашего священномученика Петра Дамаскина. Киев, 1905, с. 248). Это созвучие двух православных богословов вряд ли случайно, ибо преп. Петр (автор XII в.) во многом зависит от преп. Максима, принадлежа к «евагрианскому течению» в православном аскетическом богословии, истолкованному и исправленному преп. Максимом. См.: Gouillard J. La vie religieuse à Byzance. L., 1981, p. 257–278.