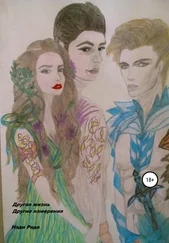Но моим мечтаниям сбыться не было суждено.
Первое стихотворение я написал, будучи учеником четвертого класса реального училища. Шла первая мировая война. Я был большой патриот. Ненавидел австрийцев и немцев. Был ярым поклонником Англии и Франции. Стихотворение, как мне тогда казалось, было необыкновенно хорошее. В нем я описал доблесть отряда казаков, атакующего немцев. Трусливые гунны бегут стремительно с поля брани. Казаки их догоняют и отрубают им головы. В конце стихотворения я предсказываю полный разгром — с помощью, конечно, казаков, — Австро-Венгерской и Германской империй и бесславный конец Франца-Иосифа и Вильгельма.
Манеры отбросив,
Мы скажем: «Долой,
Император Франц-Иосиф
И Вильгельм Второй!»
Я послал это стихотворение в журнал «Нива». Получил ответ через шесть месяцев, когда я уже перешел в пятый класс. Редакция выразила сожаление, что не может стихотворение напечатать. Завалена материалом, и для моих стихов нет места.
Я сразу понял затруднения редакции и издательства журнала «Нива». Я вернул им стихотворение с очень милым письмом, в котором дал редактору полное право сократить мое произведение по своему усмотрению, так, чтобы оно не занимало в журнале слишком много места. Никакого ответа на это великодушное предложение я почему-то не получил.
Годы бегут.
И чем больше я старею, тем меньше я становлюсь похожим на поэта. Да и не только на поэта. Даже на прозаика я не похож. Люди отказываются поверить мне, что я занимаюсь литературой. Одни принимают меня за зубного врача, другие за электромонтера, третьи за шофера такси. Но никто не принимает меня за писателя! Никто не верит, что я пишу стихи о закатах и любви.
Прихожу в гости к людям, у которых раньше не был. Дверь мне открывает хозяйка, рядом с которой стоит ее шестилетняя дочка.
Увидев меня, девочка начинает реветь.
— Она думает, что вы доктор, — поясняет мне шепотом мать. — Притворитесь, что вы собираетесь уйти, и тогда, может быть, она успокоится.
Я делаю вид, что ухожу, и лицо девочки озаряется лучезарной улыбкой.
Как-то на вечеринке меня усадили рядом с дамой приятной в очень многих отношениях. Между нами завязался оживленный разговор. Дама прибегала ко всяческим хитростям, чтобы узнать, чем я занимаюсь. Она была почти уверена, что я чем-то торгую, и хотела установить, чем именно.
— Где находится ваш магазин? — наконец спросила она.
— У меня никакого магазина нет.
— Ах, значит контора! Где же ваша контора?
— И конторы у меня никакой нет.
— И конторы нет?
— Нет. Я, видите ли, писатель.
— Вы писатель? — с удивлением выпалила дама приятная во многих отношениях. — Никогда бы не поверила!
По возвращении домой я долго стоял у зеркала, изучая черты своего лица и пытаясь понять, почему все-таки я не похож на Надсона.
Я часто проклинаю злой рок за то, что он наградил меня чувством юмора. Мне было бы гораздо легче жить на свете без этого проклятого чувства. Неприятности на этой почве происходили и происходят у меня и с моими русскими соотечественниками, и с американцами.
Расскажу кому-нибудь из моих русских приятелей анекдот, на мой взгляд очень смешной, а он посмотрит на меня непонимающими глазами и спросит: «А что было потом? Что ему его невестка ответила?»
Когда человек таким вопросом реагирует на мой анекдот, у меня появляется непреодолимое желание совершить убийство. Я уверен, что присяжные заседатели меня непременно оправдали бы.
У каждого свое отношение к юмору, свой подход. Древние римляне совершенно правильно говорили: «Что смешно Юпитеру, не смешно корове». Нельзя рассмешить одним и тем же анекдотом, одной и той же шуткой и Юпитера, и корову. Если Юпитеру шутка понравится, корова даже не хихикнет, а если шутка понравится корове, громовержец со скучающим видом спросит: «А что было потом? Что ему ответила невестка?»
Когда мне приходится читать юмористическую вещь на собрании, я заранее отмечаю в рукописи особенно смешные, на мой взгляд, места. Дохожу до такого смешного места, обвожу публику торжественным взором, как бы предупреждая ее: «А вот, господа, я вам сейчас ляпну нечто совершенно уморительное».
Подготовив публику таким образом к приятному сюрпризу, я прочитываю смешной абзац, а потом останавливаюсь и жду, чтобы публика рассмеялась. Пауза должна быть очень красноречивой. Но публика молчит. Не признает, что я ее только что рассмешил. Ни звука. Я становлюсь нетерпелив. Решаю повторить шутку в надежде, что на этот раз публика поймет, что ей должно быть очень смешно и что ей следовало бы разразиться оглушительным хохотом. Ничуть не бывало. Я начинаю сердиться и читаю дальше. Вдруг какой-то господин, по-видимому глухой, не имеющий никакого понятия о том, что вокруг него происходит, начинает заливаться. Смех заразителен. Остальная публика в зале, следуя примеру глуховатого господина, начинает смеяться.
Читать дальше