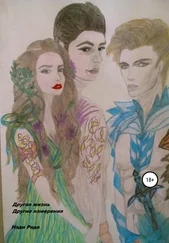В продолжение всей своей юности я продолжал любить своих родителей, и они продолжали любить меня.
С психологической точки зрения я был настоящий выродок.
О моей сексуальной жизни в те годы хвастать не приходилось. Когда же я начал хвастать, никто не хотел меня слушать. Это-то и побудило меня стать писателем. «Не хотите слушать, — решил я, — так читайте!»
У меня никогда никакого желания не было кого-нибудь задушить, или кого-нибудь разрезать на мелкие куски, всунуть в чемодан и отправить по железной дороге в места более отдаленные.
Соответствующие чувства по-видимому, во мне рано атрофировались, и мне приходится влачить жалкое существование без жестоких угрызений совести.
Знаю, что так оно не годится, но ничего не поделаешь. Я родился либо слишком рано, либо слишком поздно. Во всяком случае к современному обществу я не приспособлен.
Правда, должен признаться, что одно время меня подмывало задушить Ленина, а потом такое же непреодолимое влечение я стал испытывать по отношению к Сталину. Но это только подчеркивает нормальность моего характера. Было бы совершенно ненормально, если бы у меня не было никакого желания задушить Ильича или Виссарионовича.
Между прочим, я забыл упомянуть об одном исключительно тяжелом ударе, который судьба нанесла мне в младенчестве. Моя нянька ни разу меня не уронила, я не размозжил себе голову, мои мозги остались в целости и сохранности. Я оказался обреченным на безотрадное прозябание вполне нормального человека, без каких-либо нервозов и психических травм. Я не превратился ни в параноика, ни в шизофреника.
У меня весьма приветливый характер, чтобы там обо мне ни болтали злые завистливые языки. Я человек общительный, люблю разговаривать с незнакомыми людьми. Когда я задаю кому-нибудь вопрос о его (или ее) здоровье, я терпеливо выслушиваю ответ до самого конца. Если ответ нерадостный, я сочувственно качаю головой и делаю языком звуки, долженствующие доказать мое сочувствие. Если ответ оптимистический, я весело восклицаю:
— Как хорошо! Как я рад! Слава Богу!
Когда мне рассказывают анекдот, я смеюсь. Я смеюсь даже тогда, когда человек мне рассказывает тот же анекдот, который я ему рассказал неделю назад. Современному человеку такая любезность не к лицу. Расскажешь современному человеку очень смешной анекдот, а он скривит рот кислой усмешкой и скажет:
— Я слышал это в лучшей версии.
Я превосходно сплю, бессонницей не страдаю. Сны снятся мне обычно весьма приятные, хотя время от времени кто-либо из моих коллег вторгается в мои сновидения. Но случается это только после слишком позднего и слишком плотного ужина.
Да, тяжело мне жить на свете! Я чувствую себя отщепенцем, изгоем. Боюсь, что мне в конце концов придется обратиться к психиатру.
Меня принимают за кого угодно, но не за литератора.
А мне так хотелось бы, чтобы люди, лишь взглянув на меня, узнали во мне служителя муз.
С момента, когда я написал первое стихотворение, я стал рисовать в своем воображении потрясающие сцены, в которых я был главным действующим лицом. То я мчался опрометью верхом на Пегасе, сочиняя на лету бессмертные поэмы. То я восседал на Парнасе, окруженный плеядой существ, которые обычно окружают поэтов, восседающих на Парнасе.
Я читаю прелестным существам, всем этим нимфам, менадам, плеядам, цирцеям и хореям, последнее произведение. Вдруг раздается громкий окрик:
— Поди-ка сюда!
Это меня зовет Аполлон. Он требует меня к священной жертве. Я срываюсь с места и во все лопатки бегу к Аполлону. Какая радость!
В своих мечтаниях я рисовал себя похожим на Надсона. Он мне очень нравился. По моему мнению, Надсон выглядел, как настоящий поэт. Какая у него была шевелюра, какая борода, какие усы! Какие бледные впалые щеки!
Как я ему завидовал!
Вот я стою на эстраде перед толпой студентов и курсисток и читаю стихи. Я — вылитый Надсон, и мои слушатели от меня в восторге.
Я скандирую:
Не говорите мне: он умер — он живет…
Хотя никто ничего мне не сказал, и я даже толком не знаю, кто умер, такие трогательные слова проникают глубоко в душу. Я сам начинаю верить, что огонь на разбитом жертвеннике еще пылает и что аккорд на сломанной арфе еще рыдает.
Студентки, курсистки, я сам — мы все вместе вторим аккорду на сломанной арфе и тоже заливаемся слезами.
Мне тогда казалось, что ничего лучше доли поэта на земле не было и нет.
Читать дальше