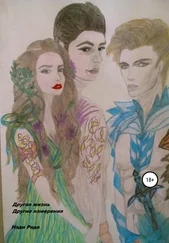Я уже имел свидание с поэтом Карлом Скальбе, которого критики называли «латвийским Блоком», но ничего из его произведений еще не перевел.
Я продолжал, однако, писать оригинальные гениальные вещи. Одновременно я усердно ухаживал за Сонечкой, очень хорошенькой и непростительно молоденькой девушкой, только что окончившей русскую Ломоносовскую гимназию.
Я был влюблен в Сонечку. Часто вздыхал и томился, не зная, отвечала ли она мне взаимностью.
Она пользовалась большим успехом у молодых людей, и нередко я себе задавал вопрос: «Неужели Сонечка, действительно, ослеплена моим поэтическим талантом? Может быть, если бы я не был таким великим поэтом, Сонечка на меня не обращала бы никакого внимания?»
Я декламировал Сонечке свои стихи. Она обычно соглашалась со мной, что они гениальны.
Немедленно по получении «аффидейвита» от американского родственника, я пошел в консульство Соединенных Штатов в полной уверенности, что ничего из этого не получится. Я ошибся. Через две недели после моего визита в консульство, я получил визу. Из консульства я побежал в контору пароходной компании и узнал, что через три дня отходит пароход.
Все, что мне осталось делать, это получить от министерства внутренних дел разрешение на выезд из страны. Оказалось, что министерство особенным поклонником моего таланта не было: оно незамедлительно выдало мне разрешение.
Прямо из министерства я отправился к Сонечке. Она жила с матерью и сестрой. Все трое были дома. В отличие от самой Сонечки, ее мать и сестра меня почему-то не считали гениальным поэтом. Признаться, они меня терпеть не могли.
— Я уезжаю, — сказал я Сонечке.
— Надолго?
— Кажется, что навсегда.
— Куда?
— В Америку.
— В Америку?
— Да.
— Когда?
— В четверг.
— В Америку?
— Да, в Америку.
Сонечка ушла в свою комнату, заперлась в ней и больше не показывалась. Я несколько раз подходил к ее двери, пытался с ней заговорить, но она не отвечала.
Я просидел около двух часов с ее матерью и сестрой. Обе женщины не скрывали своей радости по поводу моего предстоящего отъезда в Америку. Они даже угостили меня чаем с вареньем.
На прощанье они мне пожелали счастливого пути.
Никогда мать и сестра Сонечки не были так любезны со мной, как в тот день.
Я еще раз подошел к двери сонечкиной комнаты, постучался и сказал:
— До свиданья, дорогая.
Никакого ответа не последовало.
На следующее утро я явился в редакцию.
— Как переводы? — спросил редактор.
— Еще не начал, — ответил я. — Уезжаю.
— Куда? — спросил редактор. — В Двинск?
— Нет, в Америку.
— В Америку? Когда?
— В четверг.
Редактор громко расхохотался. Вот придумал! В Америку едет! Юморист…
Из редакции я поспешил к Сонечке. Меня не впустили. Несколько раз попытался вызвать ее по-телефону. Никто не отвечал.
Я уехал в очень подавленном настроении. Никто меня не провожал. Сердце исходило тоской по Сонечке.
Единственным моим утешением было то, что с меня следовало газете «Сегодня» пятьдесят латов, полученных авансом за работу, которую я никогда уже не сделаю.
Я не гожусь в космонавты…
В космонавты я не гожусь. Ни в космонавты, ни в астронавты, ни даже в аргонавты. Ни в какие-нибудь вообще навты.
Я не сделан из космонавтического теста. Не знаю точно, на каких дрожжах всходило тесто, из которого я сделан. Может быть даже не на дрожжах, а просто на дрожи.
Когда я становлюсь на табуретку, чтобы вбить в стену гвоздь, у меня начинается сильное головокружение и сердцебиение и я начинаю шарить рукой по пространству в надежде, что мне удастся ухватиться за какой-нибудь выступ в воздухе и таким образом удержаться в равновесии. К сожалению, однако, воздух представляет собой весьма гладкую материю. Я теряю равновесие и громыхаюсь о пол.
Да что — табуретка! Я даже не могу слишком долго стоять на цыпочках; голова с такой высоты начинает ходить кругом.
Нет, я определенно не гожусь в космонавты.
Я не открыватель новых земель. Не паладин зеленого храма. Я не имею никакого желания ринуться в бурлящую морскую пучину или помчаться со скоростью тысячи миль в час в зияющее космическое пространство.
Чёрт с ним, с зиянием этим. Я не хочу стряхивать с себя космическую пыль. Меня вполне удовлетворяет, когда мой бобровый воротник серебрится морозной пылью. Куда спокойнее.
Я не знаю, что со мной случилось бы, если бы я вдруг, в один прекрасный день, очутился в кабине ракеты, которую какие-то фантастические фантазеры решили запустить в пространство. Впрочем я знаю, что со мной случилось бы, но стесняюсь сказать.
Читать дальше