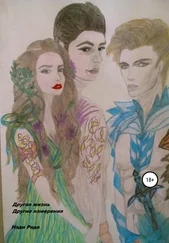Как только я очутился на борту парохода, шедшего в Америку, я стал прилагать всяческие усилия, чтобы попасть в юнги. Легче, конечно, было бы попасть в юнги, если бы я поехал в трюме парохода. Тогда я украл бы у кука морской сухарь и кусок соленой говядины. Он бы меня избил, а прибежавший на шум шкипер схватил бы меня за шиворот и сделал бы юнгой. Но ехал я в качестве пассажира, и сухарей с говядиной у кука при всем желании не мог украсть.
Я болтался под ногами у капитана, штурмана, лоцмана, боцмана и кацмана в надежде, что я им надоем и что они, просто для того, чтобы от меня избавиться, определят меня в юнги. Но никто на меня не обращал никакого внимания. Это было в высшей степени обидно.
Раз поздно вечером я вышел на палубу в коротеньких детских штанишках, которые я занял у сынка пассажирской четы из соседней каюты. Штанишки были тесноваты, но кое-как я их напялил. Так я прогуливался взад и вперед по палубе в ожидании, что шкипер, боцман или кацман подскочит сзади, ударит меня по голове так, что я лишусь чувств, и возьмет меня в юнги.
Этого не произошло. Я приехал в Нью-Йорк весьма расстроенный.
По приезде в Нью-Йорк я тотчас же стал изучать нравы и обычаи туземцев. На расторопных мальчуганов-газетчиков я взирал с восхищением. «Будущие Рокфеллеры», — думал я.
Мальчуганы что-то выкрикивали, стремительно пробегали мимо прохожих, тщетно пытавшихся их остановить. Юные газетчики так торопились стать миллионерами, что не находили времени для продажи своих газет.
Я стал подсчитывать возможные доходы и высчитал, что для того, чтобы стать миллионером, мне надо будет продавать по пять тысяч газет в день в течение ста пятидесяти семи лет.
Я отказался от мысли нажить состояние на продаже газет.
Вместо того, чтобы продавать американские газеты, я стал писателем.
Русским писателем.
Эмигрантским.
Для того, чтобы стать миллионером на этом поприще, мне надо будет выпустить по двадцать книг в неделю в течение ближайших двухсот лет.
— А теперь пуговица, — раздался в темноте чей-то женский голос. — Проклятая пуговица! Это все, что мне надо! Больше выдержать нельзя!
Что-то звонкое стукнуло о тротуар и покатилось к моим ногам. По-видимому, это была та самая пуговица, о которой с такой странной горечью только что отозвалась незнакомая женщина.
Было поздно. Моросил мелкий противный, типично нью-йоркский дождь: чернильный, пропитанный липкой сажей, превращающий весь мир вокруг в какое-то неуютное мокрое подвальное помещение. На Третьем авеню было темно. Полотно воздушной железной дороги — «элевейтед» — придавало всей непривлекательной улице еще более зловещий вид.
Я только что покинул вечеринку, и контраст между веселой, залитой светом квартирой друзей и мокрой, темной, безлюдной улицей был до физической боли невыносим.
Я нагнулся, чтобы поискать пуговицу.
— Не надо, — сказал мне тот же женский голос. — Не надо. Чёрт с ней, с пуговицей. Пусть лежит… Не беспокойтесь…
Она что-то еще сказала, но я не расслышал. Как раз в это время с обычным грохотом, скрипением, визгом, треском пронесся над нашими головами поезд. Воздушная железная дорога меня всегда пугала. Каждый раз при появлении надо мной поезда, мне начинало казаться, что вот-вот наступит конец света, столпотворение, колонны рухнут, полотно обвалится, поезд упадет на меня и раздавит меня.
— Кажется пуговица тут, у меня, возле моих ног, — сказал я. — Одну минуточку, я посмотрю.
— Я вам сказала, что не надо, — с раздражением в голосе произнесла женщина. — Не ищите. Она мне не нужна. Мне ничего больше не нужно.
Я попытался разглядеть незнакомку, но в мокрой темноте это было не так легко.
— Пуговица больше никакой роли в моей жизни не играет, — сказала женщина, поравнявшись со мной. — Она просто символ — последняя капля в переполненной чаше, последний толчок в спину человека, стоящего на краю обрыва…
Улица опять затряслась. На этот раз промчался поезд в противоположном направлении.
Мы вместе дошли до угла. При свете фонаря я увидел, что у женщины было выразительное овальное лицо, не особенно красивое, но очень привлекательное. Возможно, что в другой обстановке оно было бы красивым. Голос был определенно культурный. На вид ей было не больше двадцати пяти — тридцати лет.
— Я живу здесь, на Третьем авеню, — сказала женщина. — Днем пришла домой с работы и нашла записку от мужа. Он пишет, что больше никогда ко мне не вернется. Я просидела весь вечер в ожидании — может быть произошла ошибка или он просто подшутил надо мной. Но никакой ошибки не было, и больше сидеть дома я не могу. А теперь вот эта проклятая пуговица оторвалась и укатилась. Выдержать нельзя!
Читать дальше