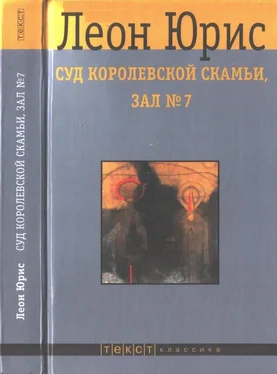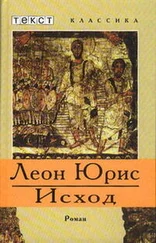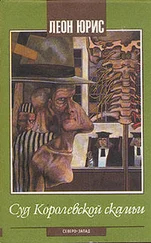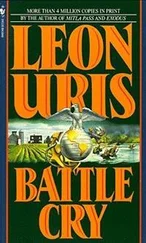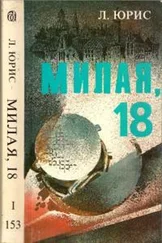— Значит, Герман Паар принял фамилию покойного, и вторую операцию ему так и не сделали, а вам сделали. Паар знал об этом решении?
Дубровски пожал плечами.
— Простите, — сказал судья, — но стенограф не может записывать жесты.
— Он был еще совсем мальчишка. Я не говорил с ним об этом. По человеческим законам у меня не было выбора.
— Расскажите о вашей второй операции.
— На этот раз за мной пришли четыре охранника-эсэсовца. Меня избили, связали, сунули в рот кляп и оттащили в пятый барак. Там кляп изо рта вынули, потому что я начал задыхаться, потом сняли с меня штаны и заставили нагнуться, чтобы сделать укол в позвоночник. Я закричал и упал.
— А что случилось?
— У них сломалась игла.
Всем в зале стало не по себе. Все чаще взгляды присутствующих направлялись на Адама Кельно, который старался, как мог, их избегать.
— Продолжайте, сэр.
— Я корчился от боли, лежа на полу, а потом услышал, как кто-то, стоя надо мной, говорит по-польски. Судя по телосложению и голосу, это был тот же врач, который оперировал меня в первый раз. На нем были белый халат и маска. Он выражал недовольство, что ему приходится ждать. Я стал просить его пощадить меня.
— И что он ответил?
— Он ударил меня ногой в лицо и обругал по-польски.
— Что он сказал?
— «Przestań szczekać jak pies, i tak i tak umrzesz».
— Что это значит?
— «Перестань выть, как собака. Все равно помрешь».
— Что случилось дальше?
— Мне сделали укол другой иглой и положили на носилки. Я снова стал просить не делать мне вторую операцию. Я говорил: «Dlaczego mnie operujecie jeszcze raz, przecie jużeście mnie raz operowali» — «Зачем оперировать меня опять, меня уже оперировали». Но он продолжал меня ругать и обращался со мной грубо.
— В лагере вы привыкли, что немцы так с вами разговаривают?
— Только так.
— Но вы поляк, и этот доктор был поляк.
— Не совсем так. Я еврей.
— Сколько времени ваши предки жили в Польше?
— Почти тысячу лет.
— Вы могли ожидать, что польский врач будет так с вами разговаривать?
— Я ничуть не удивился. Я хорошо знаю польских антисемитов.
— Прошу господ присяжных, — прервал его Гилрей, — выбросить из головы последнюю фразу. Вы согласны, мистер Баннистер?
— Да, милорд. Продолжайте, мистер Дубровски.
— Тут вошел Фосс в эсэсовской форме, и я стал просить его. Тогда врач сказал мне по-немецки: «Ruhig».
— Вы хорошо владеете немецким?
— В концлагере узнаёшь много немецких слов.
— Что он хотел сказать?
— «Молчи».
— Я должен вмешаться, — сказал сэр Роберт. — Эти показания снова содержат намек на недоказанный факт — будто операции производил доктор Кельно. На этот раз мой высокоученый друг пытается доказать даже не то, что при операции присутствовал доктор Тесслар, а то, что, по мнению свидетеля, ее делал тот же врач, который оперировал его в первый раз. Этот намек еще осложняется тем, что разговор велся по-польски. Я полагаю, что свидетель весьма вольно перевел слова врача. Например, слово «ruhig» можно встретить в стихотворении Гейне «Лорелея», и там оно означает «плавно». «Плавно несет свои воды Рейн». Если бы этот человек хотел сказать «заткнись», он сказал бы скорее «halt Maul».
— Понимаю, сэр Роберт. Я вижу среди присутствующих доктора Лейбермана. Будьте добры, подойдите к трибуне и помните, что вы еще под присягой. Немецкий — ваш родной язык, не так ли, доктор Лейберман?
— Да.
— Как бы вы перевели «ruhig»?
— В данном контексте это приказ замолчать. Любой, кто побывал в концлагере, это подтвердит.
— Чем вы сейчас занимаетесь, мистер Дубровски?
— У меня лавка подержанной одежды в негритянском квартале Кливленда.
— Но вы все еще имеете право преподавать романские языки?
— Я больше ничего не хочу… Может быть… Может быть, поэтому я и пошел на вторую операцию вместо Паара… Я был уже мертвый. Я умер, когда у меня отняли жену и дочерей…
Доктор Лейберман и Абрахам Кейди вышли из зала и попросили Моше Бар-Това зайти с ними в совещательную комнату. Пока продолжался допрос Даниэля Дубровски, они рассказали ему, какую жертву принес ради него этот человек.
— О Господи! — вырвалось у него, и он принялся, плача, колотить кулаками по стене. Через некоторое время дверь открылась, и вошел Дубровски.
— Я думаю, нам лучше оставить их наедине, — сказал Эйб.
«Они все уже уехали, кроме Хелены Принц, той женщины из Антверпена. С ней доктор Сюзанна Пармантье, так что за нее можно не беспокоиться.
Они разъехались кто куда — в Израиль, в Голландию, в Триест. Мне будет чертовски не хватать доброго доктора Лейбермана.
Читать дальше