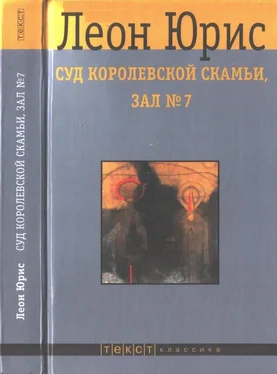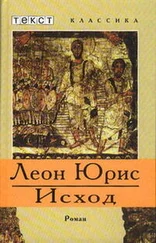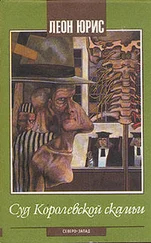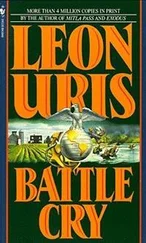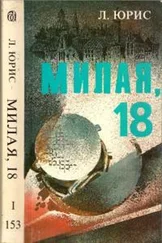Бен от души рассмеялся, но потом снова стал серьезным.
— Нам с Винни не нравится, что ты живешь совсем один.
Эйб пожал плечами.
— Я писатель. Я всегда одинок, даже в шумной компании. Такая уж моя судьба.
— Может быть, тебе было бы не так одиноко, если бы ты иногда смотрел на женщин вроде леди Сары так, как она смотрит на тебя.
— Не знаю, сынок. Может быть, мы с твоим дядей Беном, да и ты тоже, такими уж родились. Никто из нас не может выдержать светского общения с женщиной дольше пятнадцати минут. Они хороши только для того, чтобы с ними спать, да и то не все. Штука в том, что нам больше нравится быть с мужиками. На авиабазах, в спортзалах, в барах — там, где не приходится слушать бабью болтовню. Попадаются иногда женщины вроде Сары Видман, настоящие женщины, но и этого оказывается мало. Быть в одно и то же время и женщиной и мужиком она не может. Но даже если бы она понимала, что мне нужно, то, мне кажется, ни одна женщина не заслужила такой поганой участи — быть женой писателя. Я испортил жизнь твоей матери. Если женщина способна что-то мне дать, я вычерпываю ее до дна. Я счастлив быть писателем, но я ни за что не хотел бы, чтобы моя дочь вышла за такого человека замуж.
Эйб вздохнул и отвернулся, боясь заговорить о том, что мучило его весь день.
— Я видел тебя и Йосси с военным атташе израильского посольства.
— Положение там не очень хорошее, папа, — сказал Бен.
— Это все сукины дети русские, — сказал Эйб. — Они их подначивают. Господи, когда же мы получим хоть один день мира?
— На небесах, — шепотом сказал Бен.
— Бен… Послушай меня, сынок. Ради Бога… Не рвись в герои!
Не выспавшиеся, с воспаленными глазами, Абрахам Кейди и Бен вошли в здание суда. Мужской туалет находился в коридоре, между двумя совещательными комнатами. Подойдя к писсуару, Эйб почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит, и оглянулся через плечо. Это был Адам Кельно.
— Вы видите эту пару еврейских яиц? — сказал Эйб. — Так вот, они вам не достанутся!
— Прошу тишины!
Элен Принц была миниатюрна, изящно одета и вошла в зал суда увереннее, чем все другие свидетельницы. Среди них она, казалось, играла роль лидера, но сейчас Шейла видела, что она испытывает сильнейшее внутреннее напряжение и в любой момент готова сорваться.
Через переводчика — ее родным языком был французский — она сообщила, что родилась в Антверпене в 1922 году, и прочитала вытатуированный у нее на руке лагерный номер. Это повторялось уже много раз, но неизменно производило на всех глубокое впечатление.
— Вы продолжали носить свою девичью фамилию Блан-Эмбер, хотя и вы, и ваша сестра Тина вскоре после начала войны вышли замуж?
— Ну, мы не совсем по-настоящему вышли замуж. Видите ли, немцы стали первыми забирать супружеские пары, поэтому и сестру, и меня раввин обвенчал тайно, официально наш брак зарегистрирован не был. Оба наших мужа погибли в Освенциме. А после войны я вышла замуж за Пьера Принца.
— Я могу задавать свидетельнице наводящие вопросы? — спросил Баннистер.
— Возражений нет.
— Весной сорок третьего года вас и вашу сестру Тину перевели в третий барак и подвергли облучению. Теперь мы точно знаем, что это было сделано за некоторое время до того, как в бараке появились еще две пары близнецов — сестры Ловино и сестры Кардозо из Триеста.
— Совершенно верно. Нас облучали и оперировали задолго до того, как появились другие близнецы.
— Все это время вы находились в ведении женщины-доктора, польки Габриэлы Радницки. Она покончила с собой, и ее сменила Мария Вискова?
— Правильно.
— Далее, примерно через месяц после облучения вас отвели в пятый барак. Расскажите нам, что произошло там.
— Нас осмотрел доктор Борис Дымшиц.
— Откуда вы знаете, что это был доктор Дымшиц?
— Он сказал нам, кто он.
— Вы помните, как он выглядел?
— Он был очень стар, слаб и рассеян. Я помню, что у него на руках была экзема.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Он отправил нас с Тиной обратно в третий барак. Он сказал, что радиационные ожоги еще недостаточно зажили, чтобы делать операцию.
— При этом кто-нибудь присутствовал?
— Да, Фосс.
— Он не возражал, не велел ему все равно делать операцию?
— Он выразил недовольство, но больше ничего не сказал. Через две недели черные пятна ожогов стали бледнеть, и нас снова отвели в пятый барак. Доктор Дымшиц сказал, что будет нас оперировать, и обещал оставить нетронутым здоровый яичник. Мне сделали какой-то укол в руку, и я стала совсем сонная. Потом я помню, что меня на каталке отвезли в операционную и усыпили.
Читать дальше