Хуже того,— помнится, осенью 1971 г. Василь, до этого часто навещавший меня дома, поделился невеселой новостью: из КГБ ему конфиденциально посоветовали не поддерживать контакта с Клейном. Иначе, мол, того, совместно с Карпюком, подведут под статью о групповой антисоветчине. А наказание за это положено более суровое. Я ответил, что понимаю его положение: ничего иного и не остается. Мы простились с тяжелым чувством и разошлись в разные стороны. С этого момента наши встречи стали как бы случайными, разговаривать на людях мы избегали. Только и выпадало мне, что отвести душу с Алексеем, пока его самого не приперли к стене.
После увольнения с преподавательской работы я долго ходил без места. Потом меня «направили» на городскую овощную базу, предупредив, что никуда больше в городе не возьмут. Редакциям как будто не отдавали формального приказа меня не печатать — они сами знали, как поступать в этих ситуациях. Случайно я узнал, как в журнале «Полымя» обсуждали участь одной моей небольшой статьи. Сотрудники редакции приготовились было изъять ее из набора. Дело дошло до Максима Танка, и тот, якобы, с сарказмом отозвался: «Ен жа яшчэ не арыштаваны, а вы ўжо ... у штаны». Материал опубликовали, — хоть какая-то радость, но было видно, что ничего к лучшему не изменилось, скорее, наоборот.
Мы с Алексеем рассуждали примерно так. Исключать или не исключать кого-то из партии или из другой организации — это их дело. А вот лишение ученой степени и звания за неугодные кому-то взгляды — это вообще выходит за рамки цивилизованности. В каком- то смысле это даже подлее, чем бросить в концлагерь, потому что ученому как бы оставляют свободу, только духовно кастрируют. И я сказал, что на рожон не полезу, но никогда в своей жизни не смирюсь с таким наглым варварством. Для меня теперь главное — заставить их вернуть отобранное.
Так оно и вышло, им пришлось вернуть мне все: через восемь лет. [...]
— Зачем вы вмешиваетесь? -— спросил я у секретаря Гродненского обкома КПСС Григория Фомичева, — ведь я не лишен свободы, даже не давал подписки о невыезде. А поскольку все у меня уже отняли, значит, я вам здесь больше не нужен.
— Нет, вы нужны, — возразил тот, и я навсегда запомнил его слова. — Вы будете маячить на гродненских улицах, как тень. Чтобы все видели, какая судьба ожидает того, кто пойдет против нас.
А время работало против нас. Снова взялись за Алексея, — «план мероприятий» осуществлялся поэтапно. В июне 1972 г. Карпюк был решением бюро Гродненского горкома тоже исключен из партии, — но что примечательно, по обвинениям, совершенно не совпадавшим с предъявленными мне и непохожим на те, которыми шельмовали Быкова в печати. Против Карпюка же создали целое дело, распухшее от бумаг, якобы доказывавших, что в годы войны он не руководил партизанским отрядом, а его завербовали немцы, и он по их заданиям шпионил, внедрил в советскую разведгруппу агента гестапо и т. п.
Когда мы узнали про эти обвинения, то, как верно пишет Василь, версию о предательстве нашего друга не приняли. Сомнительными выглядели улики против него, и понятно было, что многое он без особого труда опровергнет. Кроме одного. Ему предъявили фотокопию страницы из немецкой финансовой ведомости концлагеря Штутгоф. И выходило по ней, что заключенный А. Карпюк трижды получал в лагере по 20 немецких марок, и каждый раз ставил в ведомости свою подпись. Алексей не оспаривал, подпись, похоже, была его, но только он не мог объяснить, откуда она там взялась. Этим то дело и осложнялось.
Когда Быков попытался замолвить слово в его защиту Кузьмину, то секретарь ЦК ответил: «Главное, там роспись за марки. А уж немцы зря денег не платили».
Я знал основных действующих лиц этой постановки, приближавшейся как будто к своему финалу. И прокурора Гродненской области Волоха, порядочного человека, который, изучив поступившие на Карпюка материалы, увидел, что тому грозит не менее 15 лет тюрьмы, и, по слухам, выразил обкому партии сомнение в обоснованности некоторых улик. И первого секретаря обкома Микуловича, причинившего нам столько зла, сколько обязан был и мог по своей должности, но будто бы распорядившегося отправить дело Карпюка на «доследование». По крайней мере, в этом он много позднее уверял людей «за чаркой», хотя Василь отнесся к его признаниям скептически.
Знал я и польского журналиста Олека Омильяновича[ 48 48 Омильянович Олек жил в Белостоке. В годы войны он партизанил вместе с А. Карпюком.
], относительно которого мы по телефону получали анонимные предупреждения, что этот человек «подослан» спецслужбой, только не уточняли, какой: нашей или польской. Но именно он проник в Польше в архив бывшего концлагеря Штутгоф, и там нашел подлинник той злосчастной немецкой ведомости, — оказывается, реестра денежных переводов заключенным от их родственников. Эту-то специфику документа намеренно утаил дознаватель, изготовивший фотокопию без заголовка, чтобы создать видимость, будто немцы платили Карпюку за тайное пособничество.
Читать дальше




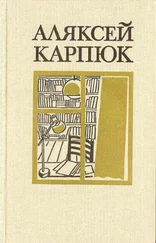
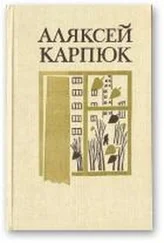

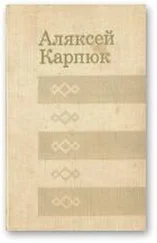

![Аляксей Карпюк - Сучасны канфлікт [Аповесць, франтавы дзённік, не зусім гродзенскія гісторыі]](/books/85856/alyaksej-karpyuk-suchasny-kanflІkt-apovesc-frantav-thumb.webp)


