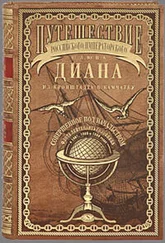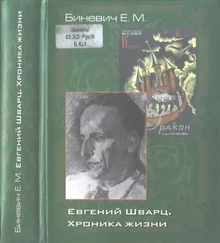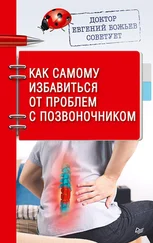Колесов внимательно разглядел Степушку — бледный, худой, какой-то длинношеий, бородка негустая, рыжеватая, курчавится, волосы волнами до плеч, глаза темные, грустные. «Рохля, — определил сразу Колесов, — не казак». Сильный, он не воспринимал слабых, они казались ему лишними, обузой, из-за которой им, сильным, труднее пробиваться вперед; он уважал равных себе.
— Беги к архимандриту, пущай ударит в колокол…
Мартиниан на стук Степушки долго не открывал. Но вот в сенях грюкнуло (откинули подпорку) и в щель высунулась борода.
— Тебе кого?
— Степушка я…
— Вижу, что Степушка, — проворчал Мартиниан. — Болен я.
— От приказчика…
— А-а-а… Заходи…
Архимандрит стоял в исподнем и поеживался, несмотря на теплый солнечный день.
— Дверь закрой, — прикрикнул он, — тепло выпускаешь.
(Архимандрит протапливал избу летом обязательно, боясь сырости, от которой у него трещали суставы.)
Степушка проследовал за архимандритом.
— Жди, — сказал он и скрылся за печкой. Оттуда спросил, что за надобность у приказчика.
— В колокол просит ударить, — сказал Степушка.
— Зачем? — удивился Мартиниан.
— Народ сзывает…
— Вновь слово и дело? — завздыхал архимандрит.
(— Да погоди ты, — недовольным шепотом кто-то оборвал вздохи архимандрита, и Степушка от любопытства замер: вот бы узнать, кто за печкой прячется у старика.)
— Сам скажет.
— То-то и оно что скажет…
Архимандрит появился в сутане, важный, торжественный, с гладко зачесанными редкими седыми волосами, будто и не болел.
Церквушка, ставленная недавно, еще держала в себе запах леса.
Среди богатых икон в серебряных окладах одна, тускнеющая, мало чем привлекала. Она хотя и висела в центре, но в окружении блеска казалась случайной, робкой. Степушка удивился, когда архимандрит, словно виноватый, покорной походкой приблизился к старой иконе и поклонился низко. Скажи Степушке, что сейчас он видит Мартиниана, хитрого архимандрита, он не поверил бы. Архимандрит, обернувшись к Степушке, взглядом приказал Степушке подойти поближе, и Степушка, недоуменный, с подступающим невесть откуда страхом, сделал несколько деревянных шагов. Мартиниан почтительно полупрошептал: «Козыревского Петра икона, царствие ему небесное. В первый год нового летоисчисления в дар церкви преподнес… Удачи Ивашке, сыну своему просил». Только сейчас Степушка пригляделся к лику. Писанный старинным мастером, лик святого дышал. Степушка спиной даже ощутил его дыхание, и мурашки у него пробежали по коже. Он не мог оторваться от иконы: лик подчинял, глаза его усмиряли.
Мартиниан тронул Степушку за плечо. Тот вздрогнул.
— Приказчик крут?
Степушка кивнул головой.
— Ну ступай. — И архимандрит отяжелело стал подниматься по узкой крутой лесенке на тесную колоколенку.
Мармон сполз с лошади у ворот Большерецкого острога и недобрым словом помянул Колесова, который сказал Мармону: «Бат оставь, не дай бог перевернешься. Возьми лошадь». Конечно, хорошую лошадь ему не дали, и он вынужден был тащиться на кляче, не столько старой, как ленивой. А он мечтал птицей туда и обратно.
В остроге Козыревского не оказалось. «Дощаник конопатит и смолит, — ответили на крик Мармона казаки. — Верстах в двух ниже. Вставай на тропу — лошадь и приведет». Мармон не ожидал, что Козыревский в делах. С постели сорвать, тепленького, хмельного, с бабой блудной, — только этим и грезил, пока трясся в Большерецк.
— Мармон! — крикнул издали встречь ему Козыревский. — Поспешай, дело тебя ждет! («Узрел, черт глазастый», — поддело Мармона.)
На пологом берегу реки Большой лежал строевой лес, сплавленный от самых Малок — верховья реки. Здесь Козыревский заложил дощаник, небольшой, но остойчивый, годный к морскому вояжу. Несколько казаков и промышленных, прокопченные, весело приветствовали Мармона. «По чью душу, Мармоша? — спрашивали они. — Иль к нам в помощь? Сила нужна».
Мармон сморщился:
— За тобой, есаул, — сказал, качнувшись в седле, Козыревскому. (Хотел добавить: «Грешки всплыли».)
— Подай лошадку, — попросил Козыревский одного из казаков, и тот подвел к нему коня, упитанного, резвого.
Прежде чем очутиться в седле, Козыревский велел горячку не пороть, без него дощаник на воду не спускать, но чтоб мачты, якорь и снасти были готовы, и когда он вернется… («Ой, соколик, плакала твоя головушка… Да сдохнешь ты в смыках! Жаль, Атласов не прибил тебя», — ударилось в сердце Мармона.)
В остроге Козыревский распорядился — в приказной избе — десятнику: глаз не спускать с ближних острожков, чтоб ительмены не подожгли Большерецк и дощаник; лазутчиков, самых хитрых и верных, пустить по тайным тропам, но вражеские дозоры обходить стороной, в бой не ввязываться. И больше не задерживался. В дороге был весел, шутил над Мармоном, который насупился, отвечал на шутки неохотно, и было видно, что он из последнего сдерживал себя. А версты за две до Верхнего Козыревский подстегнул своего коня. Мармон потянулся было за Козыревским, но его лошадь, как он ни понукал ее, так и не прибавила. «Стой! — закричал тогда истошно Мармон. — Стой, разбойник! Приказчик живота лиши-и-ит!» Козыревский не оглянулся.
Читать дальше