— А почему вы не в армии? — спросила она.
— Глаза…
— Понятно. Но все-таки вы поможете нам. Хотя бы переделать пьесу. Вот эту…
Она протянула мне «Бесприданницу». Я опешил.
— Вы что же, считаете, что она плохо написана?
Девушка вздохнула.
— В ней слишком много действующих лиц. Их тринадцать, а нам нужно шесть. Больше мы не наберем артистов.
— Но можно взять другую пьесу…
Она перебила меня, сказав, что больше у нее ничего нет. Я собирался с мыслями, желая объяснить ей, что, во-первых, сам Островский работал над этой пьесой несколько лет, что она его любимое детище и было бы кощунством ее сокращать. Во-вторых, от театра я всегда был очень далек. Студенческие средства позволяли мне бывать только в кино. Правда, я читал иногда пьесы, но и то без особого удовольствия. А переделывать их мне тем более не приходилось.
Все это я собирался ей сказать, но огонь на шестке потрескивал, играл рыжими отблесками, в девичьем худеньком лице что-то вспыхивало и потухало, и глаза ее смотрели на меня с надеждой.
— Вы человек с высшим образованием. У вас обязательно должно получиться, — продолжала она. — И вы, наверно, комсомолец? Правда ведь?
Когда женщины чего-либо хотят, они вольно или невольно пускают в ход кокетство. Но она, должно быть, считала это недостойным себя и старалась подействовать на мою гражданскую совесть.
— Хорошо, — сказал я. — Переделаю… Но это черт знает что.
Девушка протянула мне руку.
— Вот и договорились.
Затем она накрыла голову платком, стала опять похожей на старушку и ушла. И, как только дверь закрылась за ней, я спохватился, что надо проводить ее. Я выскочил на крыльцо и хотел крикнуть, чтоб она подождала, пока я обуюсь, но она была уже не одна. Кто-то высокий, большой взял ее под руку и повел к воротам. Должно быть, он ждал ее, пока она говорила со мной.
Я стоял и смотрел им вслед. Они двигались неторопливо, словно не шелестел по бурьяну осенний дождь, не висело над ними мокрое беспросветное небо. «Значит, — думал я, — кто-то берет еще девушек под руку и бережно ведет через тьму, значит, есть еще на свете и шепот ищущих губ, и поцелуи, и все остальное». Это было для меня как росток зелени из-под снега.
2
На следующий вечер я не читал Уитмена. Я сидел над пьесой и думал. Все в ней было на месте, и меня пугало то, что я намеревался сделать.
Островский смотрел на меня с обложки книги несколько укоризненно. Возможно, он уже кое о чем догадывался. «Слушайте, Александр Николаевич, — проговорил я тихо, — не сердитесь, пожалуйста. Вы, конечно, не могли знать, что вашу пьесу будут ставить в глухой сибирской деревне, осенью сорок второго года. А если б знали, то, конечно, сами пошли бы нам навстречу — упростили бы сюжет и не вводили бы столько мужских ролей. Ведь мужчины заняты сейчас совсем другим делом. Но и я ни в чем не виноват. Вы видели, как смотрела на меня эта юная учительница? Разве можно было ей отказать?»
После этого я достал из рюкзака мою великую ценность — огрызок химического карандаша и зачеркнул все первое явление первого действия. Карандаш врезался в пьесу, как скальпель в живое тело.
Мучительно трудно было решить, кого именно из действующих лиц убрать. Никто из них не желал уходить добровольно. Они хватали друг друга за руки, упирались, как только могли. Но я был неумолим.
Первым исчез Иван — слуга в кофейной. Затем ушли Гаврило, цыган Илья, лакей в доме Огудаловых. Затем я попросил удалиться Робинзона. Этот спившийся субъект рассвирепел и, уходя, так гневно хлопнул дверью, что вся пьеса зашаталась, готовая рухнуть.
Так одного за другим я уволил шесть человек. Это было нелегко. Мне казалось временами, что я режу без наркоза самого себя. Лоб мой покрылся потом. Иногда я оставлял книжку, ходил по избе и проклинал ту несчастную минуту, когда ко мне явилась миловидная учительница. Было чистым безумием браться за такую заплечную работу. И ради чего? Я даже не знал, как ее зовут.
После нескольких вечеров исчерканная вдоль и поперек пьеса походила на дом после артиллерийского обстрела. Мне пришлось даже кое-что дописать, чтоб не видны были пробоины. Так фанерными щитами маскируют то, что разрушено снарядами.
3
Мой товарищ, Минька Чеканов, был долговязый, нескладный паренек лет четырнадцати. Впервые я встретил его летом на сенокосе. Тогда его необычайно заинтересовали мои очки. Некоторое время он смотрел на них с недоумением, полуоткрыв рот.
Читать дальше




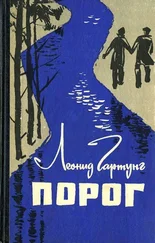







![Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-thumb.webp)