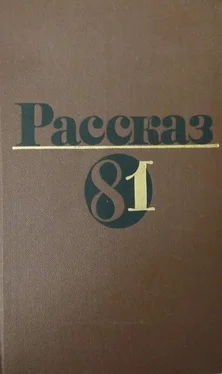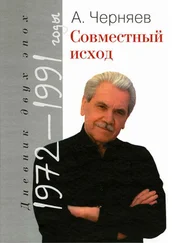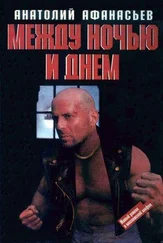А. С. Макаров
Ночью, на исходе зимы
И так мне сделалось муторно от созерцания чужого веселья, от сознания своей совершенной к нему непричастности, что я, дождавшись мстительно нового музыкального взрыва, потихоньку смылся в гардероб. Натянул пальто и со сладким чувством отверженности вышел на улицу. Было часов девять, промежуточное время, когда спектакли еще не кончились и компании не разошлись, и потому пустынная, под уклон идущая улица просматривалась из конца в конец. В воздухе ощущалась замечательная свежесть отлетающего холода, мельчайший снег искрился в лучах фонарей. Вокруг были мои места, моя земля, здесь я столько раз бродил в пору первой любви и в годы упоения первой серьезной дружбой; в последнее время мне всего этого не хватало, мне все казалось, что стоит только выбрать время и побродить по своему району, как все вернется: прежнее предвкушение перемен и прежняя полнота бытия, — вот наконец и выпала эта минута.
Я подумал о свадьбе, которую только что оставил, без малейшего сожаления подумал и без горечи, просто невнятность собственной судьбы сделалась мне очевидной. Два, а может быть, три года назад одна прелестная женщина, с которой мы знакомы очень давно, но видимся крайне редко, можно сказать, вовсе не видимся, несомненно умная и тонкая женщина, к тому же мать двоих детей, спросила как-то, посмотрев на меня то ли с насмешкой, то ли с сожалением: «Зачем ты живешь?» В ее тоне угадывалось не только превосходство, но также искреннее желание поделиться истиной.
Я смутился тогда, потом пытался прикрыться бравадой, плел нечто высокопарное и ироническое о своем так называемом предназначении на этой земле и понимал, что уличившая меня собеседница, очевидно, права. Что толку в предназначении, коли обычная жизнь не дается в руки, вывертывается и ускользает, оставляя в виде насмешливой компенсации зрелища вроде сегодняшней свадьбы.
Внезапно я понял, что добрел до своего переулка. Я жил здесь, на этом крутом московском склоне, двадцать восемь лет подряд, об его не существующий уже булыжник я обдирал себе колени, здешние дворы и закоулки были моей природой.
«Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда!»
Мимо обычных московских домов прошлого века, мимо бывших меблирашек, а ныне общежитий, мимо типографии, в которой теперь полиграфический техникум, мещанских особнячков и безликих построек я добрался до дома № 3. Это была некогда усадьба купца первой гильдии, с многочисленными флигелями и невидимыми с улицы задними подворьями.
Ноги сами вели меня, я вошел в ворота и вдоль палисадники направился к дальнему флигелю, где на первом этаже, в квартирке, чудом выгороженной в двадцатые годы из бывших людских, проживает мои одноклассник Павлик Синицкий. Лет двадцать назад это была единственная отдельная квартира, куда я был вхож. Все мои родственники, одноклассники и дворовые друзья обитали в коммуналках, иногда небольших и вполне приличных, на две-три семьи, иногда в огромных, с бесконечными коридорами, где хоть в мяч играй да катайся на велосипеде, и гулкими уборными, куда вели двери, украшенные овальным матовым стеклом. В квартире Павлика, тесной от старомодной мебели, было так же по-старомодному уютно; отец его, спортивный тренер, в прошлом конькобежец и теннисист, играл на гитаре, мать постоянно пекла что-нибудь не по-нынешнему сложное и ароматное, за печкой в своем уголке среди икон сидела восьмидесятилетняя бабка, ради которой я специально раздобыл православные святцы, чтобы вовремя поздравить ее с покровом или духовым днем.
Теперь все они умерли — и мать Павлика, и отец, и бабка. Теперь он сам хозяин в старом своем доме, глава семьи, отец двух девчонок — семи и трех лет.
Я постоял возле окон знакомой квартиры, они светились все тем же непоколебимым московским уютом, что и в те далекие зимы, лет пятнадцать или двадцать назад, когда мы с Павликом были неразлучны и виделись каждый день.
Все правильно; все верно, все так и нужно. Куда же еще идти мне, одинокому пешеходу, позднему прохожему, гостю, улизнувшему со свадьбы втихаря, — куда как не к старому товарищу.
Павлик сам отворил мне дверь. Он был в старых тренировочных штанах и в тельняшке, словно бы в память о своей упущенной спортивной карьере и о службе на флоте.
— Привет, привет, а я уж на тебя всесоюзный розыск объявил. Три шестьдесят два за голову.
Это была его нетленная шутка. Прежде он давал за мою голову три двенадцать, два восемьдесят семь, а еще раньше двадцать один двадцать старыми.
Читать дальше