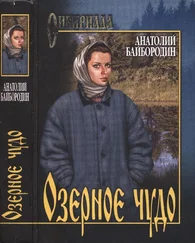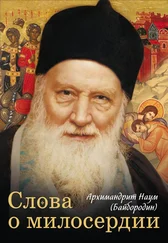Когда от воя уже связало горло, а тоска еще разрывала грудь, парнишка, озаренный злой местью, вскочил на ноги и, нервно растегивая пуговки, поскрипывая зубами, стал сдирать с себя брюки, рубашонку, сандалии и с яростной отмашкой раскидывать по скотному двору. Но и этого показалось мало, и это не разгоняло тоску, не утоляло взыгравшую злобу; тогда он стал прыгать на одежонке, стараясь как можно глубже втоптать ее в навозную жижу, чтобы сгинула с глаз, словно нечистая сила.
— Так тебе, так тебе, гадина, так тебе!..— приплясывая, наколачивая пяткой в землю, бормотал заклинанья.
Но и это не утешило. Он упал вниз лицом и снова завыл.
9
Уже в потемках бабушка Будаиха пробегала мимо скотного двора и, ворча под нос, понужала березовым ботажком свою комолую, старую имануху, которую, видимо, запалилась искать, все ноги избила, измозолила. Совестя ее, ставя в пример соседских коз, какие не блудят по задворкам от темна до темна, бабушка Будаиха, пришаркивая ичигами, ковыляла в деревню.
Видимо, не дождавшись имануху дома, старуха гнала ее из вечернего березняка — следом за ней тянулось и все козье стадо — и поругивалась с ней на бурятском наречии, при этом нет-нет да и норовила достать ботажком по иманьей хребтине. Имануха же была настороже, косила зеленоватым глазом, и лишь старуха замахивалась, тут же с молодой прытью отбегала вперед. Подле скотного двора бабушка вдруг остановилась, замерла, отведя платок от уха, окруженного щетиной седых, наголо стриженных волос. Старуха давно вошла те лета, когда старые бурятки собираются в заветную дорогу к своему желтолицему бурхану и, прозываясь теперь шабаганцой, перво-наперво остригают волосы. Шабаганцами же и русские в здешних местах ласково подразнивали малых ребятишек, тоже налысо стриженных, и, как старухи, чудных, живущих, как трава в поле, — недаром же говорят, что старый, то и малый.
Ничего не услыхав, старуха подковыляла к пряслам скотного двора и опять стала прислушиваться. Тут ухо с подставленной к нему ладошкой ухватило отдаленный, глуховатый, словно из земли, не то щенячий, не то ребячий скулеж, пропадающий, потом робко и жалобно возникающий. Послушав немного, склоня голову набок и задумчиво глядя в землю, старуха подхлестнула имануху, дожидавшую ее, и, что-то сердито наказав ей по-бурятски, пошла на голос.
Посреди двора, уже осипнув в плаче, икая и передергиваясь всем телом, сидел Ванюшка, краснобаевский отхон, и мерно покачивался, точно молился на месяц, неожиданно выглянувший из туч, окрашенный багрянцем и висящий так низко над березнячком, что его можно было ухватить рукой, если встать на цыпочки. Кроваво-красный месяц светил скупо, и небесная чернь быстро сползла на озеро, на лесистый хребет и широкую падь перед деревней, а теперь, затушевав улицы, со звериной мягкостью кралась к Ванюшке, охватывая двор тенью и сжимая.
— Ай-я-я-яй! — испугалась старуха. — Пошто ночь сидел? Мамка улица кричал: сапсем пропал хубун.
Услышав голос, Ванюшка весь съежился, нелюдимо, со зверушечьим злом блеснул побелевшими глазами в сторону бабушки, потом швыркнул носом и молча отвернулся, поджидая, когда старуха уйдет с глаз, перестанет висеть над его душой, согласной лишь на одиночество. Старуха обошла вокруг отхона, повздыхала, горько качая головой:
— Ай-я-я-яй, сапсем парня гола, хворать будет. Молодуха кричал, мамка кричал: куда Ванька ходил? Базырка искал — нету, пропал парня, озеро тонул. Ай-я-я-яй, зачем мамка пугал?!
Она еще что-то спрашивала, но Ванюшка упорно и враждебно молчал, тогда старуха, поразмыслив и что-то смекнув, подобрала одежонку в кучу, сунула в нее кое-как отысканный второй сандаль и, подцепив парнишку за локоть хваткой рукой, повела, даже немного подволакивая, потому что Ванюшка вначале заупирался, стал буровить ногами землю и все пытался вырваться, убежать обратно на скотный двор.
— Боле, болё! — она сердито дернула Ванюшкину ручонку, еще крепче сжимая ее своей жилистой кистью.
Через горячую ладошку отхона потекла в ее руку, потом во все сухое тело частая, неудержная дрожь. Старуха присела перед Ванюшкой на корточки и опять заохала:
— Ай-я-я-яй, пошто гола сидел?! Земля холодный, простыть будешь, больница ложат, сапсе-ем пропадай.
Она сняла с себя мерлушковую душегрейку, крытую зеленой, уже засаленной далембой, и, завернув парня в ее застоявшееся овчинно-кислое тепло, потом подпоясав душегрейку вязочкой, пошла шибче, уже напрямки, по малознакомым Ванюшке, узеньким, сжатым дворами и огородами, кривым проулкам. Дорогой через смутные и отрывистые Ванюшкины ответы, через раздраженное бурчание поняла, о чем нынче плакал отхон, и где по-русски, где по-бурятски стала утешать на свой суеверный лад: дескать, плакать совсем не надо — это еще не беда, потому что Майка в жизни стоящей далеко позади, была, наверно, доброй матерью, а теперь душа ее вновь переселится в малого ребятенка. А может, — отчего же не мочь?! — может, душа ее, уже с тех пор как родился отхон и отпаивался ее молочком, стала переселяться в него, чтобы вот нынче уже разом обратиться в одну душу, слиться навечно, — недаром мол, отец и звал тебя раньше: Иван — коровий сын И значит, на бойню плетется теперь пустая, утомленная плоть, хрустя и пощелкивая растоптанными копытами с легкой покорностью качая головой, а вся Майкин душа уже перекочевала в отхона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)