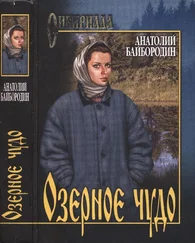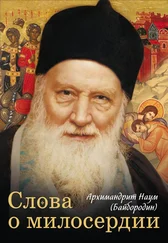Ванюшка, хоть и держался за руку, а все же брел наособицу от старухи; в душе все опустело, ссохлось, и недавнее горе утонуло в тяжело навалившейся усталости и безразличии. Он не слушал мерное, в ногу, бормотание старухи, оно, не касаясь ушей, вяло, будто сухая листва, шелестело над головой, и Ванюшка лишь догадывался, что бабушка жалеет и, как может, утешает его. А если бы он и слушал, то все равно мало бы что понял в пестрой мешанине русских и бурятских слов, как и не доспел бы малым разумением до эдаких ловких соображений; а и смекнул бы про череду жизней, и тогда б не утешился, — не поверил бы, да и внутри сквозила пустота, которую, кажется, насквозь продувал ветер, точно на ледяном озере, слизывая, как снег, редкие, цепляющиеся за память ощущения, открывая жидко-синюю, выплаканную голь.
1
Село замерло в тревожных и вкрадчивых сумерках…Но лишь вывернули на родную Озерную улицу, как в уши заплескалась громкая песня, отчего старуха с отхоном пошли тише, преодолевая напористый песенный ветер. Петь, видимо, начали вот-вот или после перекура, и пели привычное, подходящее для гулянки, набравшей веселую силу:
Зачем ты в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой…
Возле дома Краснобаевых виднелась телега: «кока Ваня приехал…» — равнодушно подумал Ванюшка и, разглядев стоящую рядом с телегой черно-зеркалистую «легковушку», прикинул, что это, поди, отец невесты из города подкатил. В благое время Ванюшка давно бы уж посиживал на мягком сиденье, вертел руль, трогал шишки рычагов, подгудывая и бибикая языком, а соседские ребятишки, с завистью бы смотрели через стекло, расплющивая носы, а он бы еще подумал: пустить их в машину или нет, и кого именно пустить?.. Маркен бы, конечно, мигом подлизался, залез и, выпросив руль, больше бы Ванюшку не подпустил к нему, несмотря на слезы, мольбы и угрозы. А в случае чего сунул бы под нос костистый кулачок и спросил: «Чуешь чем пахнет?..» — и Ванюшка, скорбно помнящий чем пахнет острый кулачок, сразу бы притих, поджал хвост и смирился. Сейчас же он безразлично скользнул глазами по блескучсй «легковушке» и перевел сморенный взгляд на свою загулявшую избу.
Подведя к самой калитке, бабушка Будаиха хотела сдать отхона матери с рук на руки, но тот, очнувшись вдруг от угарной дремоты, вырвался и отбежал на другую сторону улицы, к будаевской ограде. Старуха удивленно посмотрела на парнишку, потом через штакетник палисада заглянула в распахнутое окно, из которого вместе со светом от трех керосинок, – светом белым, лихорадочным, – вместе с тяжелым, жарким духом от закусок валил бестолковый, не разобрать путем, качающийся гомон. Там сейчас загудели осиным роем, заспорили, что бы еще такое спеть, а потом материн голос, устав ждать гармошку, дробно и удало зачастил:
Ой, надевала-д черевички д-на босу,
И гнала свою корову д-на росу!..
Мать приплясывала, ломко выворачивая непослушные руки, но вдруг — обычная история — вся сморщилась и, осев на лавку, тихонько заплакала. Но ни какую душа не встревожили материны слезы. После уж подошла старшая дочь Шура, приехавшая со своим мужем-рыбаком из заозерного рыбацкого поселка; присела возле матери, обняла и вместо того, чтобы утешить, тоже заплакала, приткнувшись головой к материному плечу. Мужик ее Фелон, высокий, ладный парень с бурым и жестковатым, фартовым рыбачьим лицом, хлопал рюмку за рюмкой, наливая себе сам, при этом откровенно и насмешливо зарился синими глазами на краснобаевскую молодуху.
Ванюшке с другой стороны улицы вся гулянка была видна как на ладони, как из темного зала на сцене, где люди пели, плясали, пьяно плакали и целовались, а за брусовыми клубными венцами будто бы вызревала лихая беда; и от чужого праздника, подменяя недавнее безразличие ко всему, в душе Ванюшки стал расти новый страх — он даже забыл на время о Майке: больно было смотреть на родную избу, готовую, казалось, вот-вот лопнуть от набухающего гуда, завалиться набок или опрокинуться вверх завалинками, — вот до чего разыгрались в ней люди, что и не заметили, как опрокинули ее вверх днищем, будто вертлявую, узкодонную лодку в мертвую зыбь. Хотя такой гомон мог бы и широкодонку, на какую больше походила изба Краснобаевых, запросто перевернуть. А Ванюшке сейчас так и виделось: изба раскачивается пьяно с угла на угол и вот-вот должна упасть набок.
Да, много бы он сейчас отдал за то, чтобы, как и прежде, войти в свою тихую избу, пусть даже сумрачно тихую, пусть даже с пьяным отцом — к этому привыкли, это свое — пусть бы отец плакался Шаману о своей неладной жизни, пусть бы даже поносил его, Ванюшку, только бы текли дни по уже наторенному руслу; теперь же как будто поперек течения вздыбились сброшенные кем-то валуны, и вода возле них жутко закипела, взбурунилась, грозя залить все вокруг, смыть все нажитое, дорогое, пусть даже и c горьковатым пролынным привкусом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)