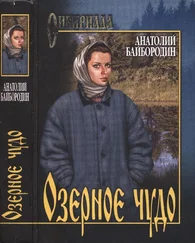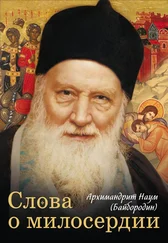А уж мать бренчит подойником. Садится на низенькую седушку с раскоряченными ножками и прилипшей коровьей шерстью, протертую до бурого блеска и лоснящуюся от мази, коей смазывают соски. Мать, прижавшись щекой к коровьему брюху, стиснув коленями подойник, несколько раз легонько шлепает по вымени, зазывая молоко, потом, по-свойски разговаривая с коровой, будто с товаркой, с той же Варушей Сёмкиной, начинает доить; голосисто поет, гудит ведерной пустотой напористая молочная течь. Ванюшка же, словно в благодарность за молочко, гладит и гладит Майку, пуще закручивает капризный завиток на лбу, трогает, морщась от жалости, обломанный рог.
Не досмотрев других видений, водянисто наплывающих перед мокрыми глазами, Ванюшка сорвался с магазинского крыльца и побежал на край деревени, куда урысили верховые. Рубашка на спине надулась белым пузырем, и слезы, не застаиваясь на лице, срывались со щек перезрелыми, горькими ягодами. Базырка удивленно посмотрел в Ванюшкину спину, поморгал, кинулся было следом, но тут же запыхался, отстал.
До скотного двора у поскотины, где гуртовали коров, телок и бурунов перед угоном на бойню, не ближний свет, тем более, такому слабому бегуну, как Ванюшка, — километра три с гаком вдоль деревни, узким серпом лежащей подле озера, но он бежал и бежал, почти ослепнув от слез, не чуя земли под ногами, и все же тихо-тихо, как навред, уходили за спину тесовые заплоты, частоколы, тыны.
Такой уж выпал парнишке ненастный день в череде других, тихомирнее: то с моросью, то проливным дождем, не давая путем просохнуть, хотя деревню весь день жарило на июньском солнышке, загоняя в тень и воду вялую сельскую жизнь, пуще размягчая и притупляя ее. Дневное светило уже спряталось за лесным хребтом, но все еще роился скопленный за день, банный жар, – ветер, как налетел, так и укрылил, не разогнав загустевшую духоту.
Когда парнишка уже не мог бежать, не мог совладать с сердцем, а оно, запалившись, рвалось выметнуться из груди на закаменелый тракт, когда сквозь онемелые, пересохшие губы не мог пробиться шепот, наконец-то показался скотный двор. Еще не в силах справиться с дыханием, с колкой сухостью забившей горло, Ванюшка надсадно отпыхивался, одиноко белея на сумеречной, отходящей ко сну земле, и, худо соображая угарной головой, оглядывал скотный двор. Больно ныл, западая и екая после быстрого бега, правый бок, и Ванюшка, покачиваясь от боли, прижимал его обеими руками.
Жерди, заменяющие ворота, вышорканные бычьими и коровьими боками до тускло-жирного свечения, с налипшими клочьями разномастной шерсти были раскиданы по сторонам, заголяя скучную пустоту двора. Унавоженная, изрытая копытами земля еще не просохла, и, казалось, в вечереющем, глохнущем воздухе еще покачивалось едва слышное, точно доносясь из-под земли, напуганное коровье мычание, и особо висел над загоном, не улетая и не снижаясь, зовущий Майкин мык.
Почти от самого двора и полузаваленной поскотинной городьбы по крутому взгорью узким языком карабкался низкий, крученый-верченый березнячок, а спустившись в сторону озера, березы выправлялись и, понежнее прижавшись друг к другу, густо и гладко утекали в небо. В белостволье у самой воды вился тракт, потом уж взбирался на хребет, и вот оттуда, с подножья хребта, кажется, тоже прилетало изнемогшее, коровье мычание, ранее клочками прицепившись к березовым сучкам или заблудившись в непролазной зелени и там осев. И отовсюду слышалось Ванюшке Майкино мычание.
Несколько берез чудом выжили внутри скотного двора, но с них наполовину, в человеческий рост содрали белую кожу, заголив до желтого, местами забуревшего ствола; и березы высохли, растопырив по сторонам черные, корявые ветви, вскинув их к небу, словно для заупокойной молитвы. К двум-трем березам ловко приладили прясла загона, и они стали сохнуть. Многажды приходилось Ванюшке играть на скотном дворе, принадлежащем «Заготскоту», и всегда двор, переполненный воробьиным щебетом, веселил душу, но теперь все виделось мрачным, недобрым, вроде хворым, почти умирающим.
Ванюшка прошел в глубь двора, но там размякшие, дрожащие от устали ноги, будто отнялись, и, завалившись на бок, парнишка болезненно сморщился, завыл. С ближней березы, сбитая воем, упала большая ворона, а выправившись подле земли, часто и тревожно каркая, гребя под себя широкими крылами, медленно пролетела по двору, над скорченным на земле парнишкой, потом угреблась в березняк и там затаилась, подсматривая из темноты черным, голубовато мерцающим взглядом. Стало тихо-тихо, в такую тишь-благодать, говорила матушка, рождаются смирные ребята, и даже воробушки, перекати-полем прыгающие по навозной земле, выклевывающие редкий овес, мирным щебетом отпевали угасший день, не руша задумчивой тишины, а как бы вытягивая ее вдоль своей неприхотливой песнью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)