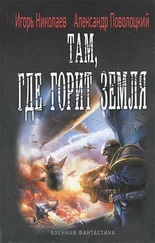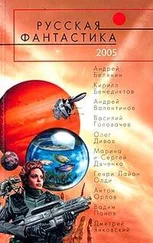– Нет, откуда ни глянуть, ты не художник! – по пьяни восклицал Фифа, разглядывая отобранные этюды где-нибудь после пятой кружки чая. – Любому понятно, что ты далеко не Брюлик, не Ванин и, уж конечно, не Грек, – коверкал он заплетающимся языком фамилии знаменитых мэтров живописи, академиков. – А я вот гляжу на твои работы. Что же в них такого? Интересно. Теперешние художники не умеют так работать. Что бы они ни делали, у них только слюнявый гламур получается. И ничего больше. К сожалению! Вот ты и привлёк меня своей необычностью. В твоих картинах ты виден больше, чем то, что ты ваяешь в отдельных сюжетах. Любое твоё полотно – это прежде всего ты. Личность! Твоя кисть! Твой взгляд на скрытую от непосвящённых потаённую суть вещей. Динамика сотворения! Мысль! Твоя психологическая экспрессия и ракурс. Твоё видение события. Чем ты и ценен мне и, надеюсь, будешь ценен другим. Да! – философствовал Феофан, размахивая вилкой с нацепленной на неё шпротиной. – Художническое ремесло – остановленное мгновение, миг, которого никогда больше не будет. Прошлое в настоящем. Мгновения, которые были и которых давно уже нет.
По-настоящему это нельзя повторить, потому что любое повторение – это всего лишь жалкая копия, попытка воссоздать то, чего никогда больше не будет. Вот почему так ценен оригинал и так мало стоит его повторение.
Масло со шпротины текло по вилке, стекало Фифе на пальцы, но Феофан в такие минуты был в ударе и ничего этого не замечал.
Порой в эти светлые мгновения между Иваном Ивановичем и Фифой возникало некое подобие взаимопонимания. «Бенидиктин» ли, придававший чаю такую терпкую, сладкую до изнеможения горечь, был тому виной, или в словах Феофана на самом деле содержался какой-то смысл, доступный для понимания Ивана Ивановича?..
Позже, изрядно набравшись, Феофан переходил от философской, ни к чему не обязывающей части беседы к деловой.
И тут между ними возникало невесть откуда, самопроизвольно, то непреодолимое расстояние, которое Иван Иванович ощущал всегда в разговоре с Феофаном, независимо от количества выпитого ими чая и, само собой, обожаемым ими обоими «Бенедиктина».
Особенно это чувствовалось, когда Фифа, перебирая толстыми, короткими пальцами с рыжей шерстью, торчащей из под перстней, его эскизные наброски и готовые работы, произносил непонятные, недоступные уму Ивана Ивановича слова: конъюнктура, рынок, спрос. Где, в каком словаре этот хозяин художественного салона их выкопал?
Пот капал с его лица. Непомерный рыхлый живот свисал, колыхаясь, над ремнём, грозя порвать майку. С короткой, бычьей шеи на золотой цепи свешивался увесистый крест с изображением спасителя всего человечества.
Антураж был полный. Ничего не прибавить и не отнять. Для интеллигентного человека, каким любил подавать себя обычно среди знакомых своего круга Фифа, портрет получался довольно колоритным. Даже просто для хорошего настроения окружающих эта картина хватала за живое и явно была чересчур.
«Может, и мне стать вот таким? – наблюдая за коммерсантом от искусства, спрашивал иногда себя Иван Иванович. – Прикупить пару-другую пивных палаток. Потом длинными зимними вечерами считать грязные, замусоленные бумажки, сводя дебет с кредитом и выводя на замусоленном листе бумаги положительное сальдо. Глядишь, появятся кое-какие деньжата, а с денежками, на зависть другим, безгоремычное, привольное житьё-бытьё. Не зря, должно быть, некоторые уверяют: торговля – двигатель прогресса».
И знал, что это невозможно. Не сможет он торговать, покупать, перекупать, нацепить на пальцы вот такие перстни, увешаться вот такими рыжими цепями, а главное – выучить эти слова: конъюнктура, рынок, спрос. Ума выучить их, как бы он ни старался, не хватит.
А всё потому, что в каждом из них где-то на клеточном уровне, в крови, заложена программа, кодовая матрица, кому кем быть.
Прогресс прогрессом, считал он, а где-то, должно быть в генах, записана книга бытия каждого из них и, как бы они ни пытались, ничего в этой книге изменить невозможно.
Потому что в книге этой чёрным по белому написано и цыганка Рада так нагадала, что Феофану в этой жизни, в табели о рангах, дозволено стать кем угодно, кем только ему, прохвосту, заблагорассудится, кем только он захочет, любое желание – пожалуйста, начиная от директора женской бани и вплоть до наместника Бога на Земле, самого господина президента.
А вот ему, Ивану, на СКРИЖАЛЯХ ВРЕМЁН золотыми литерами начертано – БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ и никем иным больше. И, как положено, наискось, размашисто, крупными, огненными, пылающими буквами наложена печать – резолюция самого ВЕРШИТЕЛЯ: «ПО СЕМУ БЫТЬ!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу