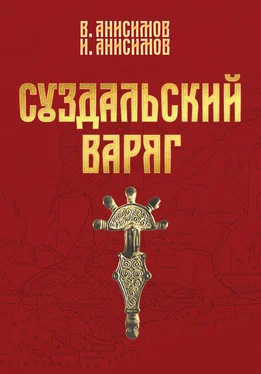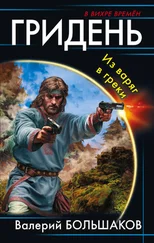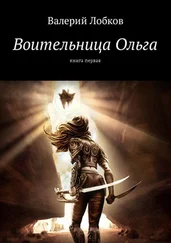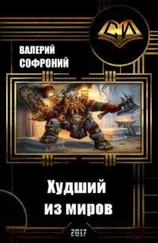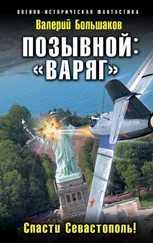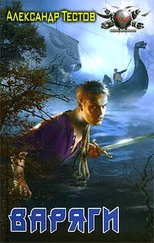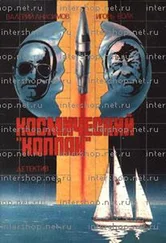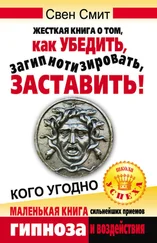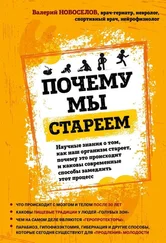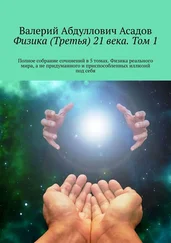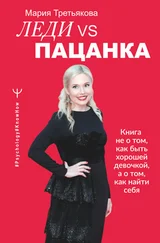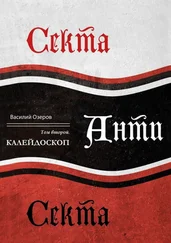Ежели Русь есть родина Симоныча, то почему он не может иметь маленький кусочек этой родины, чтобы стала она для него ещё роднее? Ему часто грезились безымянная речка с осоковыми берегами и песчаными отмелями, светлая берёзовая рощица на берегу, село на взгорке, пусть не такое богатое, как у Кучки, но своё! Храм посреди села с крутой крышей и крестом, колодец, мельница… Милый кусочек родины, где растут дети среди мирной лепоты. Как-то незаметно для себя Симоныч успел полюбить Залесский край с его ласковой природой, побуждающей человека к щемящей сердце мягкости, приглушающей дикость нравов людей в южных землях.
«Велик и дерзок замысел Кучки, – часто вспоминал Симоныч. – А ежели мы с ним станем сообщниками, глядишь, и другие мужи присоединятся. Тогда вполне осуществимо поднять Ростовскую волость за короткое время вровень с Новгородом, ежели всем миром навалиться! Иван – достойный муж своей земли, так и надо дерзать. Для великого замысла нужен и размах во всю ширь, мелочиться тут нечего. Только теперь заручиться бы поддержкой князя. Ведь от него и помощи не требуется никакой, кроме согласия. Не может он не согласиться, ведь корысть от сего дела очевидна».
Возвращаясь в воспоминаниях к прожитым годам, Симоныч всегда ощущал какую-то пустоту, будто душа потоптана копытами половецкой конницы. Прожитая жизнь не оставляла чувства незыблемости, опершись на которую, можно было уверенно шагнуть в будущее. Да, прожита всего лишь треть жизни. Немного можно вспомнить добрых дел, но никто не может его упрекнуть, что жил не по совести. Он, наконец, понял, что он не воин, не разрушитель, что душа его стремится к созиданию. Откуда это? Конечно же, от отца! Сколько доброго сделал варяг Шимон-Симон для своей новой родины! Князьям сравниться ли? Будут ли таковые устремления у потомков, далеких потомков? Подсознательно Симоныч улавливал в себе жажду деятельности во благо, а не на разрушения. И только после встречи с игуменом Даниилом, после разговора с Иваном Кучкой, он уверовал в свою стезю и почувствовал причастность к большим делам. Впереди вся жизнь, и прожить её хотелось ярко.
А сейчас он, гость кучковского хозяина, наслаждается окружающей чарующей природой и своим бездельем. Этот отдых был ему совсем не лишним, и он понимал это.
От Симоныча не ускользнули натянутая улыбка и грусть во взгляде, скрываемые приветливостью Варвары. Он сочувственно смотрел на неё, гадая, какая же хворь её одолевает?
А у Серафимы в глазах появлялась горделивая лукавинка, дескать, знаю, что привлекательна, вижу, что любуешься, а я себе на уме. Но если уж заговорит, то открыто, непринуждённо, излучая ум, словом, сущее обаяние. И Симоныч млел перед ней, чувствовал, как между ними возникает душевная близость.
В тот год осень никак не хотела уступать свои права и была на удивление тёплой. Дожди перепадали изредка и несли с собой ещё большее тепло. Стоял тихий осенний вечер. Солнце вот-вот уплывёт за дальний заречный лес, раскинувшийся тёмной неровной полосой по всему горизонту. А здесь, в бору, тени от вековых сосен становились гуще, плотнее. Косые лучи бросали последний всплеск света между стволами, пронизывали насквозь кроны деревьев. Симоныч, следуя привычке Ивана, иногда прогуливался в одиночестве по берегу реки. Он брёл, любуясь заречными далями, предаваясь раздумьям. За рекой на заливных лугах стога сена отбрасывали длинные тени. Пытался их сосчитать, но на второй сотне сбился, а глаз охватывал ещё в два раза более того. Вот оно, могущество Кучки! И угодья безмерные, и люда работного достаточно. Хлеб и скот – это главное для жизни, а уж потом всё остальное, и мягкая рухлядь, и борти, и рыбные ловы, и всякое рукоделие. Не будет хлеба – не будет скота, не будет и всего остального. Хлеб, и только хлеб, может дать толчок развитию волости. Не-ет, что ни говори, а суздальское Ополье – это дар Божий.
Симоныч успел проехать Ростовскую волость вдоль и поперёк. Повсюду взор его радовали необъятные просторы лугов и полей, светлые берёзовые рощи, тенистые таинственные дубравы, приветливые при солнце вековые боры, неисчислимые малые и большие озера и реки. И вся эта земля кишела жизнью полевых, лесных, водных обитателей!
Симоныча охватило ощущение полноты жизни. Он присел на подмытые весенним паводком корни старой сосны. Взор радостно скользил по заречной дали, уплывающей вместе с закатом в густую пелену наступающей ночи. Он поднял голову, глянул в темнеющую синь неба. Там робко одна за другой появлялись первые звёзды. «Есть ли край мироздания? Что есть в нём Русь? Крошечный островок? А земля Ростовская – песчинка? Однако от одного края сей «песчинки» до другого надо ехать две седмицы! – он мысленно представил ширь от села Кучкова до устья Клязьмы, и от Клязьмы до Белоозера. – Ведь в каждую сторону по триста с лишним вёрст. А где край сей земли к востоку от Белоозера? Гдето в устье Сухоны? А что дальше? Вот и получается, что Ростовская земля бескрайняя. Новгородцы неспешно, но упорно продвигаются в Заонежье. Ростовцам тоже не худо бы покорить и обложить данью чудь заволоцкую. Днесь земле Ростовской и её волостелю нужно силы копить, – и опять мысли унеслись в далёкий Переяславль. – Что там происходит? Видно, половецкие ханы крепко держат князя Владимира, ежели до сего времени не приехал в Ростов, как обещал. Как там жена, дочка? Не хворают ли?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу