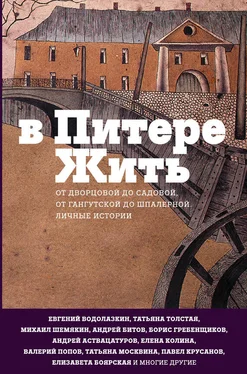Звезды падают с неба
К миллиону мильон.
Сколько неба и снега
У Ростральных колонн!
Всюду бело и пусто,
Снегом все замело,
И так весело-грустно,
Так просторно-светло.
Жизнь свежей и опрятней,
И чиста, и светла —
И еще непонятней,
Чем до снега была.
Как все хорошо и как непонятно!
Елагин остров получил название в честь Ивана Елагина, не поэта (кстати, двоюродного брата Новеллы Матвеевой, о чем ниже), а обер-гофмейстера. Елагин был один из первых и самых активных русских масонов, человек просвещенный и добродетельный. В 1786 году был возведен его дворец и разбит парк. Но сам Елагин скоро умер, и остров выкупила у его наследников императорская семья. Сразу после приобретения стали перестраивать дворец и перепланировать английский парк, в котором разрешено было прогуливаться публике. Дворец в конце концов оказался резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны, второй жены Павла I. После ее смерти в 1828 году Елагин дворец пустовал (она и сама его посещала редко, предпочитая Павловский). С восемнадцатого года в нем разместился Музей истории и быта, потом – институт растениеводства АН СССР, а впоследствии – музей, где устраивались художественные выставки всякого народного творчества. Плюс, само собой, на первом этаже показывались дворцовые интерьеры, гамбсовская мебель, гобелены и прочая скромная роскошь.
При всяком посещении Елагина острова отчетливо были видны – и, думаю, не только мне, а всякому благодарному наблюдателю – три слоя, три отпечатка, оттиснутых на нем главными русскими эпохами. Это были, так сказать, три версии увядания, двойная и даже тройная экспозиция: сквозь постсоветский распад проступала советская бодрая радость, тоже с печатью обреченности, а сквозь нее – два века упадка Петербурга, сменившего блистательный век Елисаветы, Екатерины, Павла. Вот парадокс: то, что мы знаем как расцвет русской культуры, шестидесятые годы позапрошлого века, – было, в сущности, упадком, чахоточным румянцем, последним цветением. «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», Елагин остров был подарен Шафирову, но Шафирову было не до острова; строительство и освоение там начались, когда уже царствовала Екатерина, а век Екатерины был маньеризмом, и с эпохой Петра он соотносился, как всякая оттепель с революцией: light, soft . Вот этим упадком, прощальным расцветом все было пропитано на острове. ЦПКиО, когда я его застал, тоже находился в упадке, все крутилось со скрипом, в веселье ощущался надрыв, – это было уже совсем не похоже на тот парк, о котором Слепакова, вспоминая детство, написала:
Где в майках багряных и синих
Над веслами гнутся тела,
Где остроугольных косынок
Стрижиные вьются крыла
И в блеске хорошей погоды,
Отпущенной щедрой рукой,
Маячат тридцатые годы
Высоко над синей рекой.
Где совершился перелом – после которого, как полагал близкий друг Слепаковой Лев Лосев, история российской империи решительно пошла на спад, – понять очень трудно. Сам Лосев полагал, что последним блестящим успехом России был иностранный поход 1813 года; я склонен думать, – вероятно, вслед за Слепаковой, хотя прямого разговора об этом у нас не было, – что последней вспышкой величия, хотя уже и болезненного, и с оттенком безумия, была эпоха Павла. Павел, которого Герцен назвал «русским Гамлетом» (и поэма Слепаковой о нем называется «Гамлет, император всероссийский»), рожден был для великих преобразований, не хуже петровских; но он попал на эпоху упадка, а потому остался в истории как опасный, истерический безумец. Думаю, что и Петр, родись он в иное время, остался бы в истории как истерик. На правление Павла пришелся застой, всероссийский маразм; реформатором выпало быть его сыну, и десять лет он с этой должностью справлялся, а потом началась война, которая, как обычно, все списала. (Впрочем, к началу войны Сперанский был уже отставлен – война для того и нужна, чтобы легитимизировать заморозок.) На Елагином острове Павел вспоминался постоянно, ибо его вдове предназначался дворец; соседство дворца и ЦПКиО создавало самый масштабный символ Петербурга, обнажало его душу. Самое же печальное состояло в том, что и блистательный век, и бодрая аттракционная советскость пребывали в одинаковом упадке, они отчасти примирялись – потому что их в равной степени накрывало нечто новое, тогда еще непонятное. Как написал Пелевин – и это, по-моему, самое точное из написанного им, – вишневый сад уцелел в морозах Колымы, но погиб в позднейшем безвоздушном пространстве. На Елагином острове присутствовали две России, два высших ее взлета: петровская империя и советский ее извод; на все это наползала не столько даже энтропия, сколько обычное болото. На петербургский период русской истории решительно наползала Москва, азиатчина, мы живем в эпоху ее реванша. Тогда это было еще не очень понятно, но сейчас, по-моему, очевидно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу