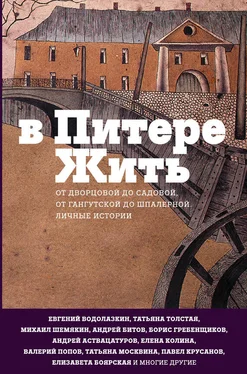Но, конечно же, у нас это невозможно, никто не посмеет покуситься на нашу национальную гордость! И тем не менее, когда идешь по Мойке от Невского к Исаакиевской площади, за памятником Николаю Первому, над нордической крышей бывшего германского посольства открывается колхозная теплица. Зачем, почему именно здесь, ужели в огороде для репы нету места?
А почему бы и не здесь? Как бы ни была прекрасна и, простите, священна эта площадь, вероятно, в какие-то списки нацгордости она все же не входит. Но тогда уж тем более в них не входят рядовые архитектурные массы исторического центра. Ну что из того, что сюда когда-то с рукописью Достоевского прибежали Григорович и Некрасов, восклицая: «Новый Гоголь явился!», а здесь были написаны «Алые паруса» и отсюда же под конвоем увели Гумилева. А по этим улицам с топором за пазухой проходил Раскольников. А у этого моста привидение с преогромными усами показало коломенскому будочнику такой кулак, какого и у живых не найдешь. А здесь народоволец Николай Морозов под наблюдением жандармов дожидался свою возлюбленную Ольгу Любатович…
Тот, кто разнес телефонную будку или нацарапал на штукатурке краткое ругательство, отнял у нас только деньги. А тот, кто уничтожил старое здание, нарушил сложившийся городской ландшафт, – тот уничтожил послание из прошлого, уничтожил декорацию, на фоне которой разыгрывались исторические драмы, в том числе вымышленные, литературные, а значит, еще более реальные для исторической памяти. Для драгоценной для каждого человека связи с вечностью необыкновенно важно ощущать, что его жизнь протекает в тех же декорациях, что и жизнь самых значительных его предшественников.
Даже обычный доходный дом времен Достоевского или Мусоргского – один из ликов эпохи. И даже советский конструктивизм или ампир времен Зощенко или Шостаковича – это тоже эпоха. А стеклянный аквариум или пузырь без роду без племени – он не посылает нам никаких сигналов ни о времени, ни о стране, если даже в нем прекрасно работают вентиляция и канализация.
Цивилизация против варварства – звучит очень пышно. Но каждый раз, когда я вижу, как исполненная поэзии историческая декорация стирается ординарностью, мне на ум приходят бесчисленные примеры, как «цивилизованные» народы стирали с лица земли неповторимые «варварские» культуры.
Как бы нам остаться варварами?… Ведь современная цивилизация – это движение от дикости к пошлости…
Дмитрий Быков
Елагин остров
К вопросу о семантическом ореоле двухстопного анапеста
1.
Двухстопный анапест в русской поэзии берет начало от Пушкина, как практически всё у нас, – «Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей». У Барри Корнуолла в оригинале размер более шаткий:
Here's a health to thee, Mary,
Here's a health to thee;
The drinkers are gone,
And I am alone,
To think of home and thee, Mary, —
и эпиграф из Бернса ( Here's a health to thee, Jessy ).
С тех пор как Тарановский открыл, а Гаспаров подробно исследовал один из важнейших «механизмов культурной памяти» – семантический ореол метра, – за каждым стихотворным размером закреплен свой набор мотивов. В этом смысле двухстопный анапест не то чтобы самый употребительный размер в моей практике, но чувства, который он у меня вызывает, больше всего нравятся мне самому. В XX веке этот размер – прежде весьма редкий – распространился широко, ибо поводов хватало; ключевыми я назвал бы три текста. Первый – стихи Иннокентия Анненского, которые Кушнер считает самыми удачными во всей парадигме:
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка…
От нее даже дыму
Не уйти в облака.
Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенский синий
И заплаканный лед!
Это в самом деле изумительно современный – а точней, вневременной – текст, который даже самому опытному читателю мудрено было бы датировать 1906 годом; скорей уж я подумал бы на семидесятые, явно постпастернаковские. Два других наиболее влиятельных случая, определивших тематику двухстопного анапеста на век вперед, – «Я убит подо Ржевом» Твардовского и «Вакханалия» Пастернака, стихотворение в высшей степени загадочное, потому что оно гораздо шире темы, заявленной в названии и автокомментарии; дело, разумеется, не в интеллигентской московской пирушке после премьеры и даже не в пастернаковском автопортрете, скрытно туда помещенном («В третий раз разведенец, и, дожив до седин, жизнь своих современниц оправдал он один»). Однажды крупный композитор, человек весьма желчный, относящийся к попыткам истолкования музыкальных опусов с тем же раздражением, что и живописцы – к так называемой «литературщине» и «сюжетчине», мне пояснил: нельзя объяснить, про что соната, – соната про то, как главная тема разговаривает с побочной. Вот и «Вакханалия» про то, как двухстопный анапест переходит в четырехстопный ямб, про то, как первые четыре главки – служба в церкви, премьера, языческое пиршество – сменяются утренним беспамятством, как бы посмертным. «Цветы ночные утром спят», – это ведь те самые цветы, которые у гроба Юры Живаго «как бы что-то совершали», то есть очищали память, отпускали душу, стирали прижизненный опыт. Отсюда «Состав земли не знает грязи». Наиболее точно воспринял этот опыт все тот же Кушнер; хорошо помню, кстати, как в слепаковской кухне, о которой ниже, я ее убеждал: смотрите, ведь есть же у Кушнера только своя, чисто личная тема! «Не помнит лавр вечнозеленый!» И Нонна Слепакова – которая на самом деле Кушнера очень любила и среди современников считала ближайшим, – демонически улыбаясь, мне процитировала: «Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего». Тьфу, блин, действительно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу