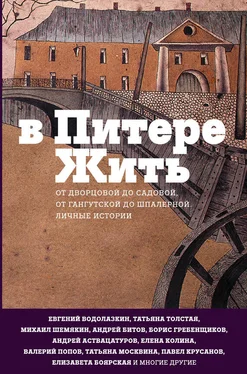Пушистые лиственничные детеныши вдоль Шестой превратились в долговязых, изнемогающих от духоты подростков. Асфальт с чего-то разворочен, вдоль щебенки разложилась истекающая потом барахолка. Продают именно барахло – какие-то старые выключатели, покоробленные туфли… А этот достойный общественный сортир на пьедестале – метро «Василеостровская» – я помню еще волнующей новинкой: все ринулись прокатиться до «Гостиного», а у меня подлый автомат сожрал жетон и вдобавок пребольно лязгнул по самому уязвимому месту.
На стене через улицу уже не проступают буквы НОМЕРА «ЛОНДОНЪ» – по диккенсовской закопченной растрескавшейся стене раскинулось агентство недвижимости «АДВОКАТ».
Восьмая линия – трамвайное столпотворение. «Чувствую, кто-то меня толкает, оборачиваюсь – трамвай», – возбужденно рассказывал гениальный Цетлин, как обычно, ни к кому не обращаясь. Скорее протрусить до угловой табачной фабрики имени какой-то революционной Карменситы – Веры Слуцкой, Клары Цеткин? Или просто-напросто Урицкого?
На углу Девятой «Рыба» прежняя, но пивного ларька уже нет (двое работяг прихлебывали пиво, рассудительно разглядывая пропитанную розовым разъезженную кучу песка: «…На скорости… Мозги сразу вытекли…») Ага, на месте и «Кондитерская», где неутомимая машинка безостановочно вынимала из кипящего жира бронзовые кольца пышек, награждавшие сластолюбцев пивной отрыжкой. Над пышечной на унылом брандмауэре огромный плакат – кроткие пингвины прохаживаются вокруг прозрачнейшей бутылищи « Smirnoff ». Никогда не замечал, какой милый, украшенный цветной плиткой северный модерн предваряет последний путь к былому матмеху – я в ту пору был убежден, что архитектура не должна служить человеку, меня влекло лишь грандиозное.
Иссушенное временем и пóтом сердце все-таки снова начало наращивать удары – когда-то я готов был триста шестьдесят пять тысяч раз в году, замирая, перечитывать вывеску «Математико-механический факультет», – отколотый угол лишь добавлял ей ореола: у джигита бешмет рваный, зато оружие в серебре. Мемориальная доска «Высшие женские (бестужевские) курсы – Н. К. Крупская, А. И. Ульянова, О. И. Ульянова…» была на месте, а что за контора здесь сейчас расположилась – не все ли равно, кто донашивает тапочки из шкуры любимого скакуна.
За дверью открывается незнакомый, а потому нелепый розовый туф. Ирреально знакомые ступени. Последняя дверь, как и тогда, по плечу лишь настоящему мужчине. Ощущение бреда полное – тесный вестибюль с громоздким пилоном посредине был запущенный, но тот же . Нов был только застарелый запах давным-давно вырвавшегося на волю сортира. Несмываемый позор…
Выходец с того света, влево уходил полутемный коридор, нырявший под темные своды гардероба, предварительно выпустив узкий рукав – ответвление в столовую, близ которой подоконник был вечно завален охапищей польт и курток, что строжайше запрещалось, поскольку их время от времени тырили. Но не тратить же целую минуту на гардероб! Столовский котяра был жирен и ленив до такой степени, что даже лечь ему было лень – он брякался набок со всего роста и замирал прямо среди шагающих ног.
А перила главной лестницы завершаются все тем же деревянным калачом, на который так любили надеваться карманы наших всегда распахнутых пиджаков. В глазах стоит мясистый регбист и щеголь Каменецкий, с абсолютно не свойственной ему растерянностью разглядывающий надорванный карман своей тройки. У меня же при моих темпах оказались оторванными полполы, полезли какие-то парусиновые кишки… Я лишь через неделю сообразил, что вместе с изувеченным пиджаком запихал в фаянсовую урну и студбилет, и зачетку.
Подвальная теплота вестибюля на улице показалась прохладой. Я брел от врат провонявшего рая, словно из запертой жилконторы.
Ба – угол Шестнадцатой линии, фанерные бельма, – а как любила моя будущая жена, которой тоже уже нет (поживешь – до всего доживешь), здешние рассыпчатые, бесконечно плоские пироги с лимоном! А там, где сходятся трамвайные пути, маячит еще один тарахтящий автобусный проспект корейского КИМа промеж двух осененных издыхающими кронами кладбищ – нашего и армянско-лютеранского, ведущий в недра таинственного в своей провинциальности Голодая.
Справа же вот-вот откроется дощатая стена Смоленского кладбища…
Но вместо саженного щитового забора взгляд ухнул в бесконечность – запущенную, неряшливо заросшую, захламленную бесконечность сровнявшихся с землей могил, покосившихся и вовсе упавших ниц и навзничь крестов: какой-то рыцарь истины из городской администрации решил открыть нам правду о нашем будущем, заменив трухлявый забор благопристойной металлической решеткой. Мы-то, впрочем, и не нуждались в заслонах: мы сами через проломы лазали на Смоленское загорать с конспектами, играть в волейбол, целоваться – я сам не раз целовался на мраморе одного знакомого статского советника, с будущей супругой в том числе. Там, за чересчур разросшимися на этой перекормленной земле деревьями, поближе к церкви начинались надгробия вполне респектабельные. А у пирамиды погибших солдат Финляндского полка я всегда останавливался с глубоким почтением – не к их гибели, к подвигу Халтурина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу