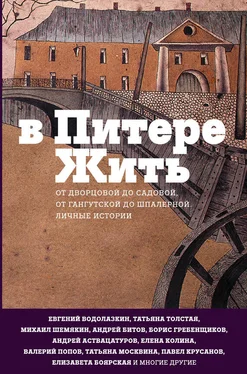А потом, в 86-м, во время первой своей ленинградской командировки, я зашел в Дом книги на Невском, в поэтический отдел легендарной и знаменитой Люси, и увидел, что все очень быстро раскупают серую книжечку стихов. То есть буквально все, кто приходил, ее брали. Ажиотажа не было, но просто каждый, кто заходил в этот отдел, покупал книгу Слепаковой «Петроградская сторона». Ну, и я купил, поскольку имя помнил, и уже на улице раскрыл, и сразу вместе с сырым апрельским воздухом стал глотать эти стихи: открылось у меня, как сейчас помню, на «Неизвестном поэте». «В доходном дому на Литейной – не точно, но кажется, так…» К возвращению в Москву я уже эту книжку знал наизусть, как знаю и сейчас. А потом я просто нашел в «Ленсправке» телефон Слепаковой, позвонил – уже это был второй год моей армейской службы, случались увольнения, – и честно сказал: Нонна Менделевна, здравствуйте, я пишу диплом по вашим стихам (это была правда), нельзя ли к вам зайти и задать несколько вопросов.
И она меня пригласила, и я поехал к ней на сорок пятом автобусе, который тогда ходил с Невского прямо к ее дому на Большой Зелениной. Она сначала думала, что морячок, пишущий по ней диплом, – это какой-то розыгрыш ее друзей. В их кругу были приняты такие шутки. Она меня встретила автоцитатой – «Звонили, открываю, молоденький моряк, он хочет видеть Валю, он топчется в дверях»… Убедившись, что я действительно много ее текстов знаю и диплом действительно пишу, она в первую же встречу дала мне еще не напечатанный «Монумент», поэму, где вместо Медного всадника – Ленин на броневике, а вместо Евгения – диссидент; вещь отнюдь не фельетонная, глубокая и страшноватая. И потом я стал к ней бегать из части каждое воскресенье, а когда однажды опаздывал к себе в Славянку, она позвонила дежурному офицеру, представившись моей больной ленинградской теткой, и предупредила, что я бегал за медикаментами и потому могу не успеть к одиннадцати вечера в часть; и это меня спасло.
Интересно, что Павел, и Пален, и Саблуков, о котором она написала потом лучшую свою балладу, были постоянной темой ее тогдашних размышлений (но не разговоров, а стихов); она видела в эпохе Павла некоторое сходство с перестроечной, которая ей, кстати, вовсе не нравилась. В отличие от большинства петербургских писателей, испытывавших либеральный восторг и демократический экстаз, она очень скептически отзывалась о наступающих временах, понимая, что распад империи никому ничего хорошего не сулит; и в этом она оказалась совершенно права. Как-то она умудрилась на своем Елагином острове остаться в стороне от заблуждений, назначений и заграничных поездок. И потому, может быть, всеобщий распад затронул ее меньше, – и никакие тогдашние заблуждения ее не отравили. Написав «Час пик» и напечатав его в «Новом мире», она, что называется, решительно отмежевалась – от всех сразу. Ее избранное называлось «Полоса отчуждения». А могло бы и «Елагин остров», потому что именно на него она была похожа больше всего.
Но почему же только Елагин? Она и Петроградку свою знала, как свою квартиру, сравнительно поздно полученную, старую и очень питерскую. Помню, как возила она меня в часовню Ксении Петербургской, скорой помощницы, которая была ее любимой святой и стала моей любимой. Русское юродство – величайший вклад России в религиозную культуру православия, в христианскую историю вообще. Особенно она любила гулять по блоковским местам Петроградки и однажды отвела меня в тот самый сбербанк, тогда сберкассу, где прежде был трактир, в котором Блок был пригвожден к трактирной стойке. Может, и легенда, но я там постоял у столика и представил себя глубоко пьяным, провожающим взглядом свое счастье; отличный был поход, она из любой прогулки легко делала праздник.
Обозреть Елагин остров и вообще Петроградскую сторону с приличной высоты мне выпало при обстоятельствах экстремальных. Однажды Слепакова узнала, что в пивном ларьке на Лодейнопольской, совсем рядом с ее Большой Зелениной, появилось свежее пиво. Я был туда отправлен с огромным бидоном, на ближайшем рынке куплены были раки, затеялся пир. Был для него и повод – из Пскова приехала другая ученица, непременная участница «Пажеского корпуса» Ирка Парчевская. Во время распития пива Слепакова увидела на крыше котенка, который никак не мог слезть. «Быка! – воскликнула она. – Немедленно спаси кота!» Мне пришлось по тайной лестнице забираться на чердак, а весна, март, скользко, и высоты я не то чтобы боюсь, но как-то не очень ее люблю, скажем так. И вот закатное солнце, все блестит, вдалеке сияет Исакий, дом семиэтажный, но с очень высокими потолками, 1911 года, большой, короче. Я был несколько пьян и только поэтому полез, тем более Слепакова все время меня подбадривала: «Ну чего ты? Левка бы давно слазил». Мочалов вообще всегда приводился в пример как образчик мужества, рыцарства и физической ловкости. Как я попал на эту крышу и как по ней ходил – помню смутно, но вид открывался действительно очень красивый. Собственно, только вид я и помню. Я шел вдоль конька, ставя ноги по разные его стороны, чтобы, если поскользнусь, не рухнуть, а сесть на шпагат. Кот, что удивительно, при моем появлении довольно шустро дернул в слуховое окно и там исчез, а вот меня снимали всем домом, то есть масса жильцов высыпала во двор и давала советы. Что интересно, Мочалов, поставленный в пример и как раз в это время вернувшийся из своего Русского музея, устроил Слепаковой грандиозную выволочку: «Я понимаю, что этот молодой идиот… но ты-то!» Слепакова кротко кивала и приговаривала: «Вот так он со мной…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу