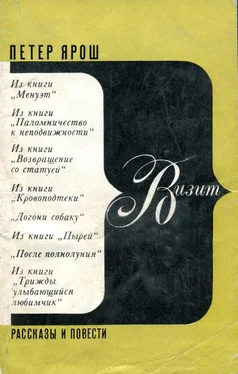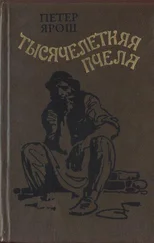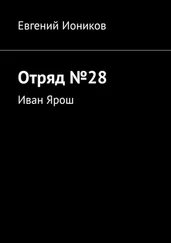Да, после многих печалей предстал Пахо перед лицом бога. Последние годы его жизни могли бы некоторым показаться постыдными, а некоторым — и справедливым возмездием. Но это не совсем правильно. И история Пахо это доказывает. Конец его был столь совершенным, что мы вынуждены были вспомнить о нем и поразмыслить, а не может ли это что-то нам прояснить.
Есть такие старики, у которых злость и извращенность заполняют последние, но долгие дни холодеющей жизни. И если они станут что-нибудь нашептывать — слушать их последнее дело. Но откуда же было знать это Ондрею Малаху, и, хотя и на него иногда веяло холодом и мороз шел по коже при одном взгляде на усохшие фигуры стариков, наших старших братьев, как привыкли твердить нравоучительные книги, все же наш Ондришко все чаще и чаще запирается в хлеву со старым Сепко, где ржание коней, мычание коров и блеяние овец должны были бы заглушить их разговоры. И хотя неизвестно, о чем они разговаривают, однако известно, что Ондрей каждый раз, когда выходит из ворот на дорогу, все с большей враждебностью посматривает на дом своего сводного младшего брата Шимо.
А то был как-то Ондрей в корчме. Вошел он, дверей даже за собой не закрыл — и сразу к стойке. Ноги расставил, шапку на лоб, опрокинул разом сто граммов сливовицы и, когда вылил в себя еще два раза по такой порции, крикнул удивленному корчмарю: «Ну, я ему еще покажу!»
— Что случилось, с тобой, Ондришко?! — перепугался корчмарь, но ответа не получил и непонимающе глядел на широкую удаляющуюся спину Ондрея. И когда хлопнули двери, поставленный в тупик поведением Ондрея, корчмарь продолжал раздумывать о нем в пустой корчме и вдруг сильно ущипнул корчмарку: она даже вскрикнула.
Потом еще Ондрея видели на задах, как он грозил кулаком неизвестно кому, а скорее всего, богу на небесах, господи, прости и помилуй. Старухи, видевшие его, уже раздевшись и отходя ко сну, вспоминая, начинали истово креститься. Говорят еще, то ли от злости, то ли от тяжести своих кулаков он потом опустился на колени и долго так стоял. Быть может, это ему не во вред пошло, но от злости стал он грызть мать сыру землю.
Наступила, однако, жатва, и все остальное как-то потеряло свой смысл. Известное дело, любая настоящая работа, и, уж конечно, работа в поле, заслоняет от людей семейные и прочие проблемы человеческих взаимоотношений. И вот наш Ондрей Малах достал из-под черепичной крыши риги косу, особым образом заточенную, чтобы жать хлеб, которая в наших краях зовется не иначе как «грабли», это, собственно говоря, косовище с маленькой деревянной решеточкой, он отбил косу и — давай бог ноги — пошел за Глиниско. Во время такой работы ни один добрый крестьянин много не разговаривает, так и Ондрей, пока не сжал клин ячменя, не сгреб, а потом перевязал снопы вместе с женой Евой, пока не уложил снопы в крестцы и не свез их потом на гумно, не сказал и трех-четырех фраз, да и то очень кратких, и раз десять только выругался. А длилось это почти целую неделю.
В субботу утром, вместо того чтобы радоваться, что ячмень на гумне и он управился с ним до дождя, который лил уже вовсю; вместо того чтобы опереться спиной об угол дома, закурить сигарету или дать глазам отдохнуть на полных лодыжках жены, снова принялся Ондрей Малах злиться. Жилы на его шее так набрякли, что жена его Ева испугалась их, точно змей. Не больно-то успокоили его и галушки с брынзой. И он выбежал из комнаты. Какой бы длинный ни был скачок, и он имеет свой конец. И как ни быстро выбежал со двора наш Ондришко, все же он остановился. Старого Сепко он увидал перед его домом.
— Ну, с чем пришел, сынок? — спросил старик и поскреб себе усы под носом как раз в том месте, где они были больше всего окрашены никотином.
— Ну, как же, — проворчал Ондрей, опуская вниз бегающие глаза, — видать, правду вы сказали, вот я и решился…
И так же, как пришел, не здороваясь, он ушел, не прощаясь.
— Не покурим разве? — крикнул ему вдогонку старик.
— Нет, не сейчас, я иду.
— Ты так решил? Но ведь пока жив, никогда не поздно…
Перед домом сводного брата он некоторое время топтался. Поглядел на крышу, не протекает ли, толкнул дверь погреба и прислушался к скрипу петель, выбросил из сеней камушки, потом вытер сапоги о соломенную подстилку перед входом, не миновал и коврик, который лежал выше, и вытер о него подошвы дочиста.
И вошел.
Сквозь стеклянный верх кухонных дверей он увидел Шимо, постучал и открыл двери.
Читать дальше