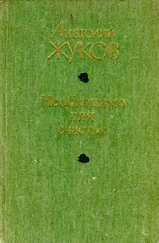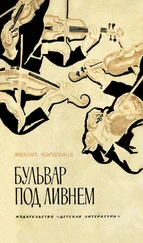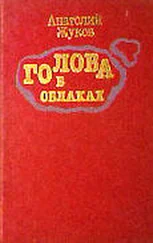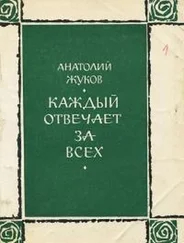Мы перебрались в комнату на диван, сладко мучая друг друга. Мой малыш, казалось, лопнет от напряжения, требуя своего вулканического извержения. Входить в Лину я не спешил. Наши руки и ноги переплелись, солнечным огнем горели тела. Не хватало воздуха. Мои губы прилипли к Лининым губам. Иногда я отрывался, и по очереди — вначале одну, потом другую — целовал бусинки ее сосков. Потом ниже зарывался лицом в ее пушистую ложбинку, кончиком языка чувствуя ее солоноватость. В коленях согнутые ноги поднимались вверх, колыхаясь мачтами парусника на крутых волнах, выписывая невероятные линии и круги, а потом, как оборванные канаты, обвивали мои плечи.
Лина захлебывалась в своей дикой необузданности. Полностью отдаваясь мощному животному инстинкту первобытности, она забыла про мораль и стыд, культуру и цивилизацию, про вечно попрекаемую по причине и без причины пристойность и, пожалуй, про самое страшное — страх показать» шлюхой. Сейчас она была ей. Она хотела ей быть Подсознательно всю жизнь мечтала об этом. И как голодная собака никогда не выпустит кость из своих зубов, так теперь и Лина никогда бы не отказалась от этих минут наивысшего самосгорания.
— Войди... — прижала Лина меня к себе.
И я всем своим упругим желанием, которое туманом затягивало мои мозги и начинало звенеть одной нотой, нырнул в ее возбужденный океан.
Радостным гневом и ненавистью он закипел. Мы до крови кусали друг друга, царапали, слюнявили лицо и шею, и нам было несказанно хорошо. И в последний момент этого взлета, когда небо обрушилось на нас, опустошенные и мокрые, мы откинулись друг от друга и, тяжело дыша, лежали молча.
Моим желанием было отодвинуться подальше и чтоб никто в этот момент не дотрагивался. Даже чувство неприязни возникало от самого случайного прикосновения. И я был благодарен Лине за тишину этих пустых, ничем не заполненных минут. Через некоторое время я услышал, как Лина попросила: «Пить хочу».
— У меня вино в холодильнике, хочешь?
— Нет, лучше попить чего-нибудь.
Я принес холодный чай, который обычно готовлю для себя. Лина с удовольствием выпила целую кружку.
— Еще, — попросила она, облизывая губы
— Холодного чая больше нет. Дать горячего?
— Нет, тогда лучше вина.
Холодное вино мы пили маленькими глотками. Оно отлично утоляло жажду и легко туманило голову.
— Где ты был с утра? — спросила Лина.
— На радио работал, — обманул я (не рассказывать же ей мою эпопею утреннего пробуждения).
— В полдевятого? — удивилась Лина. — Так рано?
— Во-первых, не в половину, а без десяти девять ты позвонила.
— Откуда ты знаешь, во сколько я была у тебя? Ты же на радио работал, — можно сказать, со всеми потрохами взяла меня Лина. Мне показалось, что я даже покраснел от своего глупого прокола.
— Да нет,— начал нелепо оправдываться я. — Вчера в театре посидели...
— У тебя кто-то был? — тихий, робкий вопрос Лины.
Я понял, если начну еще говорить какую-нибудь глупость, тогда совсем пойду на дно и ничего не докажу. И в какой-то момент разозлился на себя: почему я должен оправдываться, что-то доказывать? Кому и зачем? Моя жизнь — это моя жизнь. Я живу как хочу и как умею. И делить ее с кем-нибудь или нет — опять-таки мое право. Я человек свободный, никому и ничем не обязан. Если только родителям, но их нет — умерли. Только их могилки — знак суда и памяти. Все остальное — суета и бессмыслица. Даже Родина — абстрактное понятие. Точное представление имеет только то, что несет на себе вес ответственности и заботы. И, конечно, ни в коем случае дикое и животное: дай и сгинь! Родительское — дай и сгинь! — не существовало. Не могло существовать. Если бы такое было — то уже не родительское. Дай и сгинь! — требовала Родина. Жестоко, безапелляционно. Указывая, что это твоя обязанность, и ты не имеешь права отказать. Твое тело для нее — гной. Твоя кровь для нее — вода. До последнего твоего: пота, слез, боли, ненависти, измены, мужества, — все для нее. Ты только вещь, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. И нет никакой разницы, кто определяет и утверждает ее деятельность, кто, от ее имени бьет в колокола и кричит о вечной преданности ей, и требует от других неоплатного долга..
Ах, ты моя милая Родина! Родинка! Родимочка! Травушка-муравушка да тоскливая небесная синева. Ничего не видел более горького и обманного, чем твоя проституционная невинность, украшенная ненасытным: дай и сгинь! Сквозь тусклые сумерки твоей вечности просматривается только глаз вампира и кровососа, который своим жадным взглядом никак не хочет измениться до Христового «люблю». Дай и сгинь — как звон и набат звучит в наших жилах, сердцах, мускулах. Ничего другого не знает. Везде оно: в словах, взглядах, жестах, просьбах, заклинаниях, молитвах, молчании. Своими гениями заселили, не найдя уголочка для их души, на своему вечном и кровном.
Читать дальше