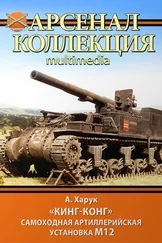Когда паром отчалил и пошел по дуге на юго-запад в гавань Нью-Йорка, по одну сторону открылся вид на краснокирпичный жилпроект Коза, а по другую — на статую Свободы и Стейтен-Айленд. Одна сторона символизировала определенность прошлого. Другая — неопределенность будущего. Она вдруг занервничала. У нее был лишь адрес. И письмо. И обещание. От разведенного шестидесятиоднолетнего белого пенсионера, который, как и она, большую часть жизни прибирал чужой бардак и жил ради других, а не ради себя. «У меня даже нет его телефонного номера», — волновалась она. Может, и к лучшему, решила она наконец. Тем проще, если захочется пойти на попятный.
Пока обшарпанный паром скользил по гавани, она глядела с палубы, как исчезают вдали Коз-Хаусес и проплывает справа статуя Свободы, потом задумалась, пока рядом на ветру покачивалась чайка — без труда скользила над водой на уровне глаз, наравне с палубой, а потом оторвалась и улетела. Сестра Го наблюдала, как чайка работает крыльями и забирается выше, потом поворачивает обратно к Коз-Хаусес. Только тогда ее разум перескочил через прошлую неделю к Пиджаку и к разговору, который она вела с Сосиской. Пока той ночью в подвале Сосиска говорил, перед ней словно раскрывалось ее собственное будущее, ткалось, точно ковер, где узор и плетение меняются вместе с новым полотном. Каждое слово отчетливо запечатлелось в памяти:
Когда позади церкви разбивали сад, Пиджачок пришел ко мне. Сказал:
— Сосиска, ты должен кое-что знать об той картине Иисуса на стене церкви. Мне надо рассказать хоть кому-то.
— И что такое? — спросил я. Пиджачок ответил:
— Я не знаю, как назвать эту штуковину. Да и знать не желаю. Но как бы то ни было, принадлежит эта штуковина Слону. Он нашел ее в стене и взамен отгрузил церкви целый вагон денег — больше, чем влезет в любую рождественскую кассу. Словом, не переживай за Димса. Или за его друзей. Или за рождественские деньги. Слон обо всем позаботился.
— А как насчет полицейского? — спросил я.
— А что там у Слона с полицией? Это его дела.
Я ему:
— Пиджачок, мне Слон без надобности. Я говорю о тебе. Тебя все еще разыскивает полиция.
— Пусть себе ищут. Я тут разговаривал с Хетти, — сказал он. Я спросил:
— Ты опять пил? — потому что он всегда был пьян, когда говорил с Хетти. Он ответил:
— Нет. Мне, Сосиска, чтобы с ней свидеться, пить не нужно. Теперь я ее вижу ясно как день. Мы ладим, как ладили в молодости. Тогда я был не то что сейчас. Я скучаю по выпивке. Но мне нравится быть с женой. Мы больше не ссоримся. Беседуем, как в старые деньки.
— И о чем беседуете?
— Большей частью о Пяти Концах. Хетти любит эту старую церковь, Сосиска. Хочет, чтобы она прирастала. Сыздавна хотела, чтобы я прополол сад за церковью и растил там луноцвет. Я женился на хорошей женщине, Сосиска. Но оступился в жизни.
— Что ж, это уже позади, — сказал я. — Ты уже очистился.
— Не, — ответил он. — Я не очистился. Господь может и не даровать мне искупление, Сосиска. Я не в силах бросить пить. Я еще не взял в рот ни капли, но пить хочу. И буду.
И тут он достал из кармана бутылку «Кинг-Конга». Хорошего. Производства Руфуса.
Я ему:
— Ты же сам этого не хочешь, Пиджачок.
— Хочу. И буду. Но я скажу тебе так, Сосиска. Хетти была очень рада, когда я занялся садом за церковью. Она всегда об этом мечтала. Не для себя. Она мечтала о луноцвете и большом саду за церковью с разными травами и всем прочим не для себя — а для меня. И когда я условился с церковью, я сказал жене: «Хетти, скоро будет луноцвет».
Но она, вместо того чтобы обрадоваться, пригорюнилась и ответила: «Я тебе кое-что скажу, дорогой, чего говорить не стоило бы. Когда ты закончишь с садом, больше ты меня не увидишь».
Я ей: «О чем это ты?»
А она мне: «Как только ты закончишь. Как только посадишь луноцвет, я уйду на небо». Не успел я и слова вставить, как она спросила: «Что же станется с Толстопалым?»
Я ей ответил: «Ну, Хетти, у меня в мыслях все выглядит так. Что есть женщина, как не ее труды и не ее дети? Господь всех нас создал для труда. Когда я на тебе женился, ты была христианкой. И все сорок лет, сколько я пил и валял дурака, в тебе не было ни капельки ленцы. Ты хорошо растила Толстопалого. Была строга с собой и честна со мной и Толстопалым, и потому он вырастет сильным».
Сказать по правде, Сосиска, Хетти не могла выносить ребенка. Толстопалый ей не родной. Он прибился к ней раньше, чем я переехал в Нью-Йорк. Я еще оставался в Южной Каролине. А она — одна-одинешенька в Нью-Йорке, дожидалась меня в девятом корпусе. Однажды утром она открывает дверь квартиры и видит в коридоре Толстопалого. Ему и пяти-шести не было — заблудился, когда спускался вниз, на автобус для слепых. Она постучалась к женщине, у кого он жил, а та сказала: «Можете взять его к себе до понедельника? Мне надо съездить к брату в Бронкс». С тех пор ни следа этой женщины Хетти не видала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




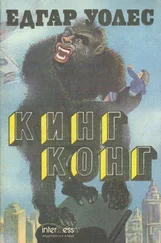

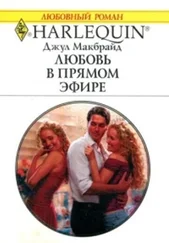


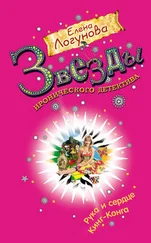
![Виржини Депант - Кинг-Конг-Теория [litres]](/books/394102/virzhini-depant-king-kong-teoriya-litres-thumb.webp)