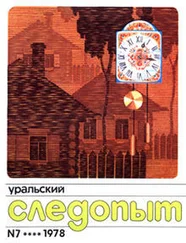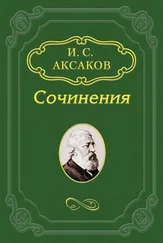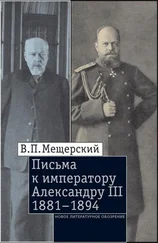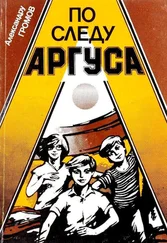Он произнес это в приподнятом тоне, словно речь, и лишь очень внимательный наблюдатель мог разглядеть страх, прятавшийся в глубине его существа.
— Комиссия выполнит свой долг, равно как и прокуратура, — заметил Дэнкуш.
— Хорошо, посмотрим. А теперь встреча окончена, — прямо заявил префект — и остался очень собою доволен.
И тогда прокурор Юлиан Маня все тем же ровным, немного каркающим голосом сказал так просто, как будто и не слышал перепалки:
— Господин Месешан, вы остаетесь в распоряжении прокуратуры. Именем закона я арестую вас за серьезное злоупотребление служебным положением.
— Не имеете права! — закричал префект. — Я запрещаю вам!
— Нет, имею. Имею право. Господин квестор, возьмите под стражу господина Месешана. Приведите его завтра в восемь утра в прокуратуру. Я сам выпишу ордер на арест.
Потом он скромно откланялся и вышел из кабинета. Спокойно спустившись по лестнице, вышел на улицу, миновал группы людей. Люди поняли, что он играл какую-то роль в этом деле, потому что кто-то сказал:
— Прокурор.
Юлиан Маня прошел мимо них, равнодушный, холодный, не испытывая ни к кому, ни вражды, ни дружеских чувств. «Они долго еще останутся у власти, — думал он. — И я вместе с ними». Толпа, как таковая, его не интересовала, хотя сейчас могла быть полезной.
— Вы поступаете неправильно, господин префект, — сказал Дэнкуш и вышел, решив сделать все, чтобы непременно и до конца выполнить свой план.
Префект опустился в кресло, его начальственный порыв иссяк.
Квестор Рэдулеску, оставшись практически один на один со своим пленником, сказал ему:
— Я вызову машину, господин Месешан, и мы выйдем через черный ход.
Потом он предупредительно взял его за руку и сказал мягко, чуть слышно:
— Пойдемте же!
— Нет, — возразил префект. — Он останется здесь, пока не будет выяснено положение вещей. Идите с ним в зал совета. Там есть диван, на котором можно отдохнуть.
Когда они ушли, префект минут на пятнадцать закрыл глаза, мысли его где-то витали; придя в себя, он попросил, чтобы его связали по телефону с кабинетом заместителя председателя совета министров и с министром иностранных дел.
Перевод Татьяны Ивановой.
Адвокат Пауль Дунка чувствовал, что гнев, охвативший его, будет стойким, непохожим на те мимолетные приступы ярости, которые вспыхивали, как солома, и с которыми он обычно справлялся без труда. На этот раз гнев поднялся откуда-то из глубины души, всплыл внезапно и резко, точно забытое воспоминание, озарение. Такому гневу нужен был выход не на словах, а на деле, но тут-то и возникали трудности.
Адвокат был полон решимости покончить с несправедливостью, покарать виновных и одним ударом освободиться от той среды жесткого насилия, которая обступала его весь этот последний год. Решимость была налицо, но он не знал, как осуществить свое намерение, сознавая, что в одиночку ему ровным счетом ничего не удастся сделать.
Покамест, несмотря на обуревавшую его ярость, он вполне рассчитанно и хитро отделался от всех приятелей Карлика и отправился побродить по улицам наобум, куда глаза глядят. Он даже забыл зайти к Хермине Грёдль, совершенно забыл о ее существовании, словно безотчетно отнес и ее к числу тех, с кем он порывал. Недавнее сладострастие, так называемое чистое наслаждение, столь чистое, что и действенным быть перестало, — все это уже не вязалось с его новым душевным состоянием. Он искал в Хермине утверждения своей личной свободы, свободы от каких бы то ни было морально-общественных принуждений. Теперь эта беспредельная личная свобода открылась ему во всей своей истинной неприглядности, ущербности, более того — она оказалась глубоко чуждой его подлинной натуре.
Пауль Дунка, человек разносторонних и необычных для своей среды знаний, сформировавшийся благодаря им, теперь отвергал все накопленное чтением, — отвергал, потому что так хотел, а не потому что убедился в полной практической непригодности книжных наук.
Он в свое время читал и размышлял над фразой: «не все возможное допустимо», и теперь, в этот час зимнего дня — когда гнев с полным основанием слил воедино и предсмертное выражение лица Стробли (внезапно постигнувшего весь смысл происходящего), и крик жены убитого, и чистый ухоженный двор простого ремесленника, и пышную тщетную гордыню опустошенной библиотеки, — он открыл, осознал с непреложностью смятенного прозрения, что есть вещи, с которыми никак нельзя согласиться, а следовательно, и они воистину недопустимы.
Читать дальше