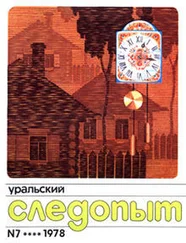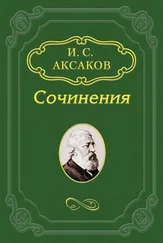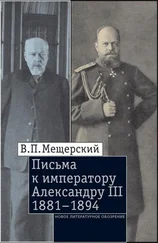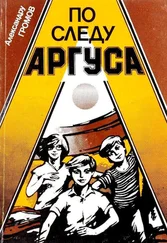Поэтому он упорно повторял про себя: «Недопустимо, недопустимо» — и шагал в такт этому слову то по пустынным переулкам, то по многолюдным улицам, где толпился народ, взбудораженный теми же событиями, которые потрясли и его. Но он не замечал окружающего, не видел сходящихся и расходящихся горожан, не различал встревоженных или гневных лиц. Внешний мир для него был теперь даже дальше, чем в то утро, когда он прогуливался с Карликом. Оттого он никак не отреагировал и на имя Карлика, выведенное на заборах, на мостовой, — он проходил, не замечая, что надписи требовали смерти главаря банды. Люди добивались того же, что и он, но они-то были ему совершенно чужды.
«Что делать, как поступить? — думал он, — что предпринять против недопустимого?» Казалось бы, проще всего обратиться к властям, заявить в прокуратуру, полицию или суд, открыть, как все произошло, кто и в чем виноват, и самому стать главным свидетелем обвинения. Да, но Дунка знал о связях Карлика с полицией через Месешана, знал, сколько у него подкупленных людей, завербованных в это смутное время, когда многие, прежде скрытые побуждения обывателей, живших тихо-скромно, довольных серой, но обеспеченной жизнью, теперь вдруг обнаружились во всей своей неприглядности. В этих людях пробудилась жажда насилия, вспыхнула, может быть, из-за страха за содеянное вчера или неясного страха перед завтрашним днем.
Понимая это, Дунка не мог доверять властям. Пусть не все были запроданы, но, без сомнения, Карлик везде имел своих людей, имел свои глаза и уши. Если б главарь банды учуял, что происходит теперь в душе адвоката, он без малейших колебаний тут же ликвидировал бы его, легко умножив количество преступлений, совершенных за этот злосчастный день. Карлик решительно избавился бы от самого опасного свидетеля, более опасного, чем все сообщники, вместе взятые, если именно он заговорит. Пауль был полон решимости избегнуть расправы Карлика, чтобы свидетельствовать обо всем происшедшем — с помощью или без помощи правосудия.
Конкретные планы адвоката разлетелись вдребезги в самый момент своего возникновения. Ему ни на миг не пришло в голову обратиться к народу, просто к людям. Он не знал, что им сказать, как сказать, да и вообще, он боялся безликой массы. И наконец, подобные вещи не оглашаются на улице, не говорятся всем встречным-поперечным! Он не сомневался, что агенты Карлика незаметно сновали в толпе, чтобы узнать и тут же сообщить банде, каково настроение народа.
«Как поступил бы отец в таком положении?» — вдруг озарило его. Он словно видел въявь своего отца, поднявшегося против взывающей к небесам несправедливости. Если речь шла о злоупотреблениях, отец не стеснялся применять крутые меры даже к представителям власти, правда стоящим ниже, чем он сам. Непорядочных, с его точки зрения, людей он умел осаживать и просто уничтожать, используя для этого всю свою силу и престиж, опирающийся на его род, вплоть до почтенного доктора Т. М., великого мужа — основателя фамилии. Но для этого требовалось, чтобы власть и престиж срабатывали безотказно и вызывали широкий отклик. Тогда перед виновными закрылись бы все двери, вокруг них образовалась бы пустота… Пауль Дунка думал о своем отце, перед которым трепетал, он видел его перед собой во всем его величии и грозной угрюмости. Старик многое умел выразить одним своим молчанием, и он умел сказать «нет», когда нужно было сказать «нет», лучше, чем кто-либо другой. Он был способен на отказ, который защищал нравственные ценности, признанные большинством, даже если обстоятельства требовали компромисса.
Внушительный образ отца не принес с собой никакого решения, и Дунка продолжал идти наугад, углубившись в свои мысли и надеясь, что выход все-таки найдется. После долгих блужданий он очутился перед своим домом, где жил вместе с матерью и куда в последнее время наведывался довольно редко, деля свой досуг между Карликом и Херминой. У него было пристанище на вилле Грёдль, недалеко от библиотеки Карлика, — отдельная неприбранная комнатушка, обитая рваным темно-красным шелком.
Пауль не виделся с матерью уже недели две-три, с самого сочельника, когда ему вдруг захотелось принести домой елку и украсить ее старыми — своими и сестриными — игрушками, которые потом перешли к Григоре. Это были цветные стеклянные шары и фигурки ангелочков. Он оглядел украшенную елку и громко рассмеялся, хлопая себя руками по коленям, по бокам. Он был опять невинным шалуном, захваченный пленительными воспоминаниями детства. Пауль не мог бы поделиться своими воспоминаниями с Карликом, потому что тот мог вспоминать только о драках, о вымогательствах ради того, чтобы заполучить сладкий кусок прежде, чем его многочисленные братья. А у Пауля было счастливое детство, — счастливое, несмотря на то, что он был исполнен страха перед нарушением бесчисленных правил, предписаний и запретов. На рождество он не мог усидеть за столом вместе с родителями, рвался побегать по лесу, гоняясь с палкой в руках за продрогшими зайцами, крича так, что шарахалось все живое. Любил еще колядовать по домам и прятать потом на печке с таким трудом добытые крендели, и это было счастьем, настоящим, диким, а не тем благопристойным и предписанным, за которое он должен был почтительно целовать руку у отца и матери…
Читать дальше