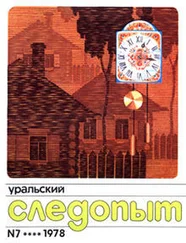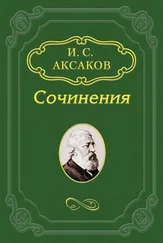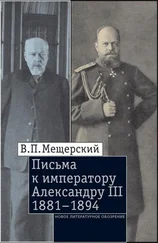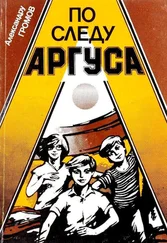Я сидела на крылечке и считала ворон, только они одни и были черными в это время года, и жилось им, видно, не худо, они были крупными и жирными, поедали в поле полузамерзших зайцев — те покорно ждали смерти, низвергавшейся с неба. Боже, говорила я себе — я была, пожалуй, взбалмошной девчонкой, — почему не становится еще холодней, интересно, сколько еще могут выдержать деревья и сколько еще люди могут терпеть, и горы, и камни… «Иди, Илянка, в дом, не то от мороза потрескается лицо и выступит кровь, и останутся у тебя на щеках следы, как от порезов, и ты состаришься смолоду, и никто не возьмет тебя в жены, так и будешь вековухой».
А я и не думала о замужестве в те времена и ничего на это не отвечала. Я сидела, завернутая в меховой бурнус, точно замерзшее чучело. Ждала и я чего-то, какой-то великой боли, и мне нравилось ждать ее на морозе, в мертвой тишине.
И страдание мое пришло. Только он, мой двоюродный брат Виктор, в которого я была тайно влюблена, мог проделать на санях в это жестокое время трехчасовой путь из самых Джулешт. Я знала, что он должен приехать, и сначала расслышала скрип саней в тишине, потом тяжелый храп дымящихся паром лошадей, потом увидела сани на повороте дороги, и мне захотелось убежать, но я продолжала сидеть как прикованная на крыльце, пока сани не остановились у подъезда и кучер не снял с колен Виктора и тетушки Амадилы толстые полости и не набросил их на спины лошадей. Кучер помог тетушке выйти из саней, чуть ли не на руках ее вынес, и вот оба они, Виктор и тетушка, поднялись по ступеням лестницы. «Гляди-ка, Илянка!» — сказала тетушка и подставила мне ледяные щеки и губы, тонкие, жесткие, как у всего нашего рода, как и у тебя, мой мальчик! А Виктор, словно догадываясь о чем-то, не осмелился поцеловать меня, свою двоюродную сестру, а только молча поклонился и пропустил меня впереди себя в дом.
Я знала, что это его последнее посещение перед долгими годами разлуки, знала, что, когда он вернется (он больше никогда не приезжал!), я уже не смогу пойти впереди него и никто, ни женщина, ни мужчина, как бы почтенны они ни были, не пройдут впереди него в дверь. Было решено, что Виктор поедет в Рим и лет через десять получит высокий сан, он будет нашим пастырем, а мы — его стадом до самой смерти и после смерти. Долгие месяцы с конца лета ни о чем другом в доме не говорилось, а я слушала и молчала.
Владыка выбрал его не потому, что он был его племянником, а как самого достойного из нас, чтобы он унаследовал его престол в Блаже, ибо Виктор был ласков и суров, к людям относился терпимо и кротко, а к себе — беспощадно и не склонял головы ни перед кем, кроме господа бога и святого отца. Только он и мог достойно защищать честь нашего рода. Дядюшка наш, владыка, обратился с письмом в святую Конгрегацию и, волнуясь, ждал, пока не приехали два святых отца из Рима. Они беседовали с Виктором ежедневно три недели подряд и уехали, ничего не сказав ни ему, ни самому владыке, которому они поцеловали перстень на руке и приняли его благословение, но так ничего и не сказали, и никто их ни о чем не спросил, ибо не полагалось этого делать. Я узнала только, что римско-католический епископ из Альбы по просьбе графа Телеки послал им приглашение посетить его и отобедать вместе. Те два священника поехали, но святая осторожность связала им языки, и они и там не проронили ни слова о кандидате, как ни старался епископ Апор, сам из рода баронов, и даже их соотечественник Телеки. Очень не хотелось им, чтобы великим пастырем стал кто-либо из нашего рода, известного своей непреклонностью. Мечталось им, чтобы престол занял кто-либо более сговорчивый, не такой твердокаменный.
Обо всем этом говорилось в нашем доме с утра до вечера, за завтраком, обедом и ужином. У меня сердца кровью обливалось, но я молчала и слушала, не позволяла себе и тени постыдной надежды, что его не примут в кандидаты. Какое право было у меня мечтать о своем личном счастье, получить его ценою позора и поражения?
Наконец пришло из Рима послание, чтобы Виктор прибыл в святой город не позже первого марта. Все обрадовались, что и говорить, а я лишь грустно улыбнулась. Оставалось ждать, когда он приедет, чтобы попрощаться навсегда.
С тех пор я ждала его, завернувшись в меховой бурнус, каждое утро, каждый день, сидя на жестоком морозе, чтоб побыть с ним вдвоем хоть минутку, успеть пожать ему руку. Я хранила свои руки в тепле, в шерстяных варежках, чтобы согреть его руки с мороза. Но он приехал со своей матерью, которая повсюду сопровождала его и гордилась им. Поэтому мы только поклонились друг другу, и я прошла вперед и первая вошла в дом.
Читать дальше