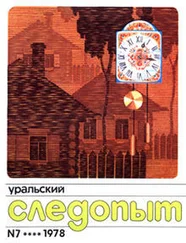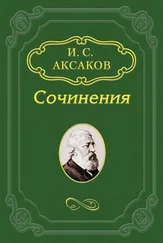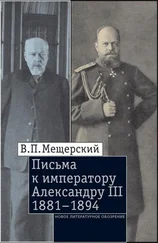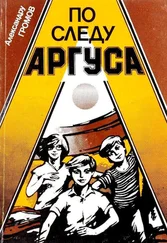— Пусть убивают, мало кто из господ умеет жить. Иди и позаботься, чтобы еда была готова вовремя, — может быть, нас не убьют до обеда.
Корнелия испуганно вытаращила глаза и пробормотала:
— Простите меня, — и вышла, тихо прикрыв за собой дверь, словно госпожа задремала.
И бабушка продолжала рассказ, не обращая внимания на то, что интерес Григоре уже раздваивался между вестью, принесенной Корнелией, — нет дыма без огня! — и прерванным рассказом с легким привкусом эротики.
— Ты, наверное, слышал, что Виктор напрасно подчинился долгу. Я почти ничего не знала о нем, он редко писал своим родным. Лишь лет через пять-шесть, когда я была уже замужем и стала матерью, я узнала все. Доктор теологии Виктор, подававший, как говорилось в письме святой Конгрегации, самые большие надежды на то, что он будет любимейшим сыном церкви, совершил самый тяжкий грех, собственноручно лишив себя жизни, — жизни, которая не принадлежала ему, а была божьим даром и божьим достоянием. Он годами терзался сомнениями, кощунственными сомнениями, но не имел права отступиться, потому что был послан в Рим нами, всем нашим родом.
Помолчав, бабушка добавила:
— С той поры я больше не встречала такой суровой зимы, когда от мороза промерзала земля до самых глубин. Весне теперь не с чем больше бороться, земную кору легко пробивают травы, так легко, что даже противно становится. И вороны не покидают горных лесов, и села полны грачей и воробьев.
На этот раз Григоре осмелился спросить:
— Но почему же он не уехал из Рима, если понял, что не может быть священником?
— Я же сказала тебе. Мы, а в особенности он, они, эти прекрасные молодые люди, не разрешали себе жить собственной жизнью. Господь дал им жизнь, род хранил ее, и они пользовались ею, как неким залогом. Даже мой любимый брат Михай, который умер безумным, не мог прожить жизнь так, как хотел. Не позволял ему отец, который признавал только долг. И вот настали эти времена, а самые блестящие жизни не были прожиты. Жили, как хотели, не Виктор, не Михай, а та женщина, Вираг, пока не умерла на больничной койке. Незадолго до ее смерти я послала ей, не говоря, от чьего имени, полную корзину изысканных блюд. Чтоб она насладилась перед последним своим часом…
Какие зимы, господи, какие зимы бывали тогда! До самого мая не смела явиться весна…
Старуха умолкла, и Григоре ушел бы незаметно, как делал прежде, оставляя бабушку одну, чтобы она могла свободно предаваться своим воспоминаниям, воскреснувшим благодаря ему. Но на этот раз он задумался и не ушел. Он впервые серьезно задавал себе вопрос: принадлежит ли его жизнь ему или не только ему? Но Григоре был слишком молод, чтобы по-настоящему ставить перед собой такой вопрос.
В этом положении и застал их Пауль Дунка, когда он открыл дверь и стал на пороге. Тут Григоре вспомнил об известии, принесенном Корнелией. Адвокат выглядел удрученным, он не затопал сапогами по своей новой привычке, не уселся в кресло с вызывающим видом, нагло вытянув ноги, не заговорил, громко и насмешливо похохатывая. Старуха ждала, боясь узнать то, что давно поняла — с тех пор как сын ее выбрал безнадежный путь, думая, что спасает себя.
— Уйди отсюда, Григоре, — сказал Пауль Дунка, гнев которого сейчас превратился в страх и угрызения совести: здесь он гневаться не имел права…
Григоре вышел из комнаты, почувствовав облегчение. Он вдруг догадался, что существуют такие человеческие отношения, которых лучше не знать, как лучше не видеть неистового клубка ядовитых змей. Он ушел в свою комнату и ждал чего-то, сидя на краешке кровати, обхватив голову руками и чуть ли не заткнув уши.
— Мама, — сказал Пауль Дунка, — я убил человека!
«Вот и пришла беда, мы опозорены», — подумала старуха. Случился великий грех, которого она не сумела предотвратить. И она виновата в этом. Ее любимый сын, самый любимый, в час своей гибели убил не птицу, как брат ее Михай, а человека — и ей захотелось разразиться такими же рыданиями, как когда-то разразилась ее мать, глядя на аиста, который кружился над телом своей убитой подруги. Она давно поняла, что так будет, вспоминая давно прошедшее событие, но ничего не могла сделать. Она не спрашивала «почему», ибо не существовало ответа на этот вопрос. И она спросила чужим, сухим голосом совсем не то, что нужно было, лишь бы что-то спросить. Теперь самым тяжелым для нее, как и для сына, было молчание. Поэтому и был задан этот вопрос:
— Кого?
— Невинного человека. Убил, чтобы покрыть других убийц!
Читать дальше