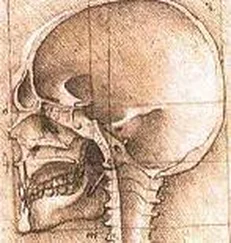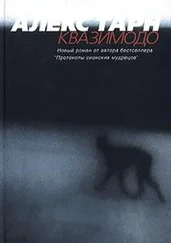– Рейночка, Рохеле… – пробормотала она, увидев дочерей. – Живые… слава Богу. Хорошо…
– Чего ж хорошего, мама? – обливаясь слезами, спросила Рейна.
Энта Лазари с усилием повернула голову, словно ища кого-то взглядом.
– Хорошо, что Аарон не видит… Вечно он… вечно он куда-нибудь…
– Не останавливаться! Пошли! Пошли! – крикнул подъехавший жандарм.
– Идите, девочки, идите… – прошептала Энта. – Там у вас дети…
Ночевали на большом лугу за околицей одной из попутных деревень. Румынская охрана и возчики перепились с местными; пьяные, они до полночи разгуливали по лугу, подыскивая себе подходящую жертву для очередного изнасилования, для очередной кровавой забавы. Бежать было некуда: отовсюду на людей пялилась хмельная от душегубства, жестокая смерть. Пойманных одиночек румыны и украинцы убивали без лишних разговоров, походя. Шанс уцелеть оставался лишь у того, кто прятался на виду, среди таких же, как и он сам, – шанс на то, что убийца, выбирая из многих, не успеет дотянуться до него, что жажда убивать иссякнет раньше, чем будут убиты все назначенные на убой. А пока… – пока, чтобы выжил ты, должен умереть другой – простая формула овечьего, человечьего стада.
Подчиненная случайному выбору смерти, жизнь и сама превращалась в случайность, то есть лишалась всякого последовательного смысла, всякой самостоятельной ценности. Люди на лугу уже не были защищены не только статусом человека или статусом живого существа, но даже и статусом вещи. Вещь редко бывает ничьей – она почти всегда принадлежит кому-то: частному хозяину, общине, государству, Богу. А они были именно ничьими, так что любой мог подойти, и взять их, и делать с ними все что угодно, – все, до чего только может додуматься гораздый на выдумку садист и изувер.
Но самым поразительным представлялось не столько наличие этой возможности, сколько массовая готовность к ее реализации – как будто подавляющее большинство окрестных жителей вдруг одним махом превратились в насильников и мародеров. Еще вчера они были для вас друзьями, или добрыми приятелями, или хорошими соседями, или просто приветливыми крестьянами на городском рынке, которые щедро добавляют к вашей покупке свою улыбку или даже лишнюю ложку сметаны, лишнее яблоко, конфету-леденец для вашего ребенка. А сегодня… – сегодня они хватают этого же ребенка за ноги и разбивают ему голову ударом о придорожный камень. Сегодня они набрасываются на вашу двенадцатилетнюю девочку и насилуют ее насмерть всей своей гадкой павианьей ордой. Сегодня они получают искреннее удовольствие от убийства, насилия, грабежа. Почему? Неужели возможно такое превращение? А может, они всегда были такими и лишь прятали свою истинную звериную суть под улыбающейся человекообразной личиной?
Наутро жандармы объявили, что количество подвод сокращено: все, кто в состоянии встать и идти, должны продолжать дальше своим ходом. Отныне на место в телеге могли претендовать лишь самые старые и больные; после долгих препирательств Рейне и Брохе удалось посадить на переполненную подводу своих бабушек – семидесятидевятилетнюю Сару Лазари и совсем уже дряхлую Хану-Лею. Старый Ицхок-Лейб со своим Талмудом мог теперь полагаться лишь на помощь правнуков Давидки и Александра. Пешая колонна начала движение раньше подвод; возчики объясняли задержку тем, что им приказано ехать следом, подбирая отставших и ослабевших.
Второй день мало чем отличался от первого.
Насилие, избиения и грабежи повторялись во всех попутных деревнях. Растягиваясь на два-три километра в промежутках между населенными пунктами, шествие резко тормозило перед каждой околицей. Издали завидев поджидающих их мучителей, люди инстинктивно сбивались в кучу, пятились, прикрываясь от жандармских плетей и сабель, которые гнали их вперед. Выхваченные из толпы женщины уже не противились насильникам, зная по опыту, что сопротивление лишь распаляет их и продлевает муку. То и дело слышались выстрелы: жандармы и полицейские из местных убивали для забавы, от скуки, на спор, соревнуясь в меткости. Людская река медленно ползла на восток, редея и уменьшаясь, большими и малыми лужицами оставляя на обочинах дороги мертвые тела стариков и детей.
Рейной, как и другими, овладело странное равнодушие, пришедшее на смену страху. Осязаемая близость смерти, случайность ее слепого выбора полностью меняли и отношение к жизни, ко всему, что некогда было важным, ценным, существенным. Еще два дня назад гибель матери стала бы для нее невообразимым горем, от которого трудно оправиться. Но уже вчера они с сестрой бросили умирающую мать в придорожной канаве. Оставили ее истекать кровью – просто встали и, не оборачиваясь, пошли дальше, и небо не потемнело, и солнце не рухнуло на землю, и дочерние сердца не лопнули от непереносимой муки. Возможно, их вел инстинкт самосохранения, страстное желание жить?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу