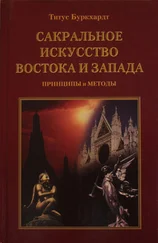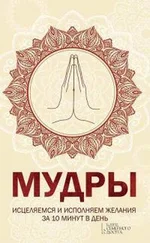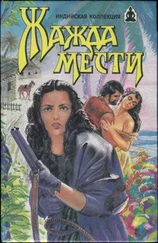Но Гэврилэ молча отошел от перил и побрел к дому. Пику схватил его за рукав, громко сопя от волнения.
— А ты не дурак, Теодор, — улыбнулся Гэврилэ. — Умен, ничего не скажешь. — Но я скажу тебе кое-что: пропала земля, и не только Паппа. Пропала и наша. Все пропало. Раз люди решили отнять землю у барона, их уже не остановишь! У нас тоже могут отнять, а потом будут отбирать друг у друга, убивать друг друга и враждовать сотни лет… Мне нужна не земля Паппа, а порядок. Такой порядок, чтобы ни одна собака не осмелилась нарушить его. Чтобы даже собаки боялись…
Пику схватился за грудь, согнулся и надолго закашлялся.
— Поправляюсь, — сказал он, взглянув на ладонь. — Крови нет… — Потом отступил на шаг и смерил Гэврилэ взглядом. — Послушай. Если поместье все равно отберут, пусть оно будет наше. Пятьсот югэров… земля. У тебя думы об ином? Вижу. Тебе нужно навести порядок. («Ну и черт с тобой, — подумал он, — делай что хочешь, болван, только отдай мне свои деньги».) Ты хочешь, чтобы тебя слушали люди. Ежели у тебя будет земля, они будут слушать от страха, поневоле. В кулаке будут у тебя. А одними словами ничего с ними не сделаешь. Дашь мне денег?
Гэврилэ замедлил шаг. Пику с волнением следил за его движениями, старался понять, согласен он или нет.
— Может быть, и дам, — наконец ответил Гэврилэ. — Только было бы куда лучше, чтобы все осталось, как теперь. Люди не станут ни богаче, ни беднее от четырех югэров, а жадность у них разыграется… А теперь пошли к Кордишу.
— Зачем?
— Увидишь.
— Хорошо.
Они пошли рядом. Пику судорожно зевал. Ему хотелось спать, но он боялся прекословить Гэврилэ.
В доме учителя все еще горел свет, доносились хриплые, пьяные голоса.
— Темно у меня на сердце, — вздохнул Гэврилэ, глядя в землю. — Темно, как в могиле.
У Кордиша их встретили криками радости. Вокруг стола, заставленного тарелками, бутылками и грязными стаканами, сидели сам хозяин, бледный и потный Кордиш, отец Иожа, разгоряченный, в одной нижней рубахе, и захмелевший Кулькуша с мокрой от вина бородой. Тут же клевал носом Суслэнеску. Жена Кордиша Сильвия, высокая, еще довольно красивая женщина, не спеша двигалась за их стульями и потчевала гостей:
— Пейте, кушайте, угощайтесь.
Гэврилэ присел, отломил кусочек хлеба и окинул присутствующих долгим взглядом. Отец Иожа притворился, что не заметил его, — как-никак, Гэврилэ был главой баптистов, и поп считал необходимым, враждовать с ним, хотя в глубине души уважал старика и хотел бы вернуть его на путь истинный, да сам не силен был в вопросах веры.
— Принеси доску, Сильвия, — быстро крикнул Кордиш. — Тащи ее сюда. Пусть они посмотрят, как мы…
Сильвия подала Гэврилэ довольно длинную свежевыструганную доску, на которой было написано дегтем: «Здесь живет предатель». Все одобрительно загалдели, только Суслэнеску печально улыбнулся и покачал головой.
— Знаете, что это такое? — спросил Кордиш. — Не знаете? Эту доску мы сегодня же ночью прибьем к воротам Теодореску. Так приколотим, что не отдерешь. Кроме того, я поручил кое-кому выбить у него стекла. Пусть знает, с кем имеет дело…
— Хорошо, — сказал Гэврилэ и чуть заметно кивнул головой.
Не ожидавший одобрения, Кордиш сначала растерялся, потом быстро наполнил два стакана вином, шатаясь, подошел к Гэврилэ, поцеловал и протянул стакан.
— Выпей, дорогой. Прошу тебя, выпей…
— Спасибо, я не пью, — ответил Гэврилэ.
Кордиш нахмурился. Зная вздорный характер учителя, Гэврилэ подошел и, грустно улыбаясь, прикоснулся к его лбу губами.
— Теодореску нужно наказать, — прогнусавил отец Иожа. — Я прочту в церкви проповедь о предателе. Ты, Пику, да и вы, Гэврилэ, наверно, еще не знаете, что Митру Моц явился в примэрию, украл ключи у Софрона и самовольно занял место старосты. Его следует отдать под суд…
— Да, не мешало бы, — согласился Гэврилэ. — В тюрьму бы его за это.
Суслэнеску внимательно взглянул на Гэврилэ. Как сквозь туман, разглядывал он красивое, правильное лицо, голубовато-серые глаза и вдруг проникся симпатией к старику. Весь этот день Суслэнеску чувствовал себя необычно счастливым. Уважение и почет, с которыми относились к нему новые друзья, приятно щекотали его самолюбие. Говорил он мало и так путано, что сам не понимал, что говорит. Но не содержание, а отзвук, который находили его слова, имел для него значение. Сотни раз говорил он так с Высланом и коллегами по гимназии, но никогда еще не испытывал такое острое, волнующее чувство от того, что даже самые сокровенные мысли его находят отклик и понимание. И у кого? У этих простых людей, которые несколько десятков лет назад были бы его рабами. Он чувствовал их поддержку и по уважительному тону священника, который обращался к нему не иначе, как «господин профессор», «ваше превосходительство», и т. п. Эти люди приняли его в свою среду без всяких подозрений, руководствуясь при этом простым инстинктом и не выпытывая его мысли (как попытался сделать это Теодореску). Понадобился всего лишь один напряженный день, чтобы он впервые в жизни не побоялся понять свое предопределение, свою миссию и самозабвенно сблизиться с ними, тогда как прежде ему приходилось быть недоверчивым и напряженным со всеми, чувствовать себя недостаточно сильным, чтобы быть последовательным. Поэтому Суслэнеску не интересовала суть споров; он улавливал в них лишь наивную сущность их взглядов и полностью принимал их. Все сводилось теперь к борьбе против смешения ценностей, которые несла с собой эпоха.
Читать дальше
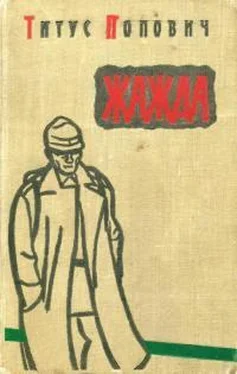

![Брайан Ламли - Титус Кроу [сборник]](/books/27192/brajan-lamli-titus-krou-sbornik-thumb.webp)
![Мервин Пик - Титус Гроан [liters]](/books/32928/mervin-pik-titus-groan-liters-thumb.webp)