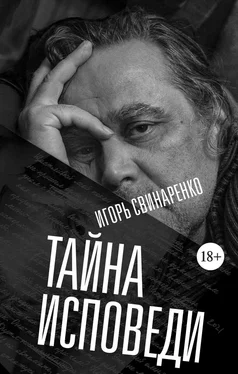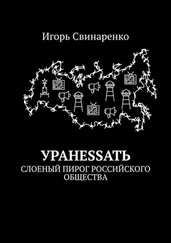Но, как я сказал, ничего не было. Не случилось. Через пару дней я уехал из их города.
Но это еще не конец истории.
Возможно, именно эта неотвратимость моего скорого отъезда отбросила нас друг от друга. Зачем любовь до гроба и африканские страсти, если у вас в распоряжении всего три дня? Никакой перспективы хоть курортного романа. Недели и то мало, надо две хотя бы. Ну, 10 дней на худой конец. Это все знают. И дело было не только в быстротекущем времени, но и в нашей общей невинности и провинциальном патриархальном воспитании.
После, при нашей встрече через полгода, Димон мне рассказал, как-то запросто, между делом, без тени пафоса и страстей — что было дальше.
Они втроем напились — он и обе подруги — и Димон принялся целовать мою невинную голубку. Которая не подавала никаких признаков жизни — хотя, конечно, дышала и у нее был пульс, не как было позже с его малиновым, бурячным телом — но не более того. Дальше случилось то, что случилось. Он взял ее пьяную, бесчувственную, почти мертвую. Клиническая смерть, кома, что-то такое. Наутро Женя страшно удивилась — откуда на простынях столько крови? Ее с Димоном подружка, которая была в курсе всего, стала врать, что иногда график дней ломается, особенно по пьянке! — и дела начинаются внезапно. Женя, кажется, в это поверила. Ну как не верить ближайшим друзьям, а? Кому ж тогда?
Что мне было с этим делать?
С этим невыносимым знанием?
С этим аццким ужасом?
Я, когда услышал про это, вспомнил старую притчу.
Человек приносит другу окровавленный мешок с неким гибким еще и теплым мясом внутри, говорит, что вот убил человека, и теперь надо где-то закопать труп, помоги, брат, на тебя вся надежда. Они куда-то едут в ночи, вдвоем роют яму и закапывают жмура. Пафос в том, что в мешке была пара свежезабитых баранов, такая проверка на вшивость — донесет, нет? Момент истины. Это история про суть дружбы.
Я провалился в эту пропасть. Вот — подлое преступление. Про честь, благородство и всё такое прочее — понятно. Это было злодейство, покушение на ангела, на чистейшую прекрасную душу. С которой у нас был серьезный глубокий роман — неважно, что он тянулся всего три дня и мы даже не поцеловались ни разу. Это было, что называется, большое чистое чувство, которое превзошло какие-то мои длинные бурные отношения с замахом даже на ромео-джульеттовский суицид, — от избытка эмоций и доверчивости. Вообще же, если подумать про свою жизнь, покопаться в ней — и в чужих жизнях, которые разворачивались у меня на глазах, — понимаешь: всегда уже в первые минуты, когда двое (разнополых) предстают друг перед другом, сталкиваются на жизненном пути, сразу обоим становится ясно, будет у них что-то — или не будет. Точнее, могло б двоих накрыть по-взрослому, с силой стихии — или никак не могло. Да, бывает стопроцентная ясность, но иногда, если такое выпадает, чья-то невидимая рука раскидывает людей в разные стороны, и тополя продолжают спокойно и безучастно торчать на Плющихе, все три. Когда-нибудь их спилят, за этот пух, это семя, которое летит в глаза недовольным прохожим. Лотерейный билет остается выигрышным, даже если он не предъявлен к оплате.
Легко догадаться, что я не донес на друга. Более того: несмотря на все мои мучения, у нас с Димоном всё осталось как было. Да! И еще: мы с ним никогда больше не говорили про это. Вот он мне про это рассказал — и типа мы про это забыли.
Я после много и часто думал про Женю. Без тени спокойствия. Злодеяние это недалеко ушло от убийства. А по моей шкале дозволенного и недозволенного — это было так даже и хуже убийства. Я прислушивался к себе, к своим движениям где-то в глубине, и считывал ответ: убить человека и я бы мог, при каких-то обстоятельствах, при стечении их. А вот на такое, как он с Женей — не пошел бы никогда. Мне казалось, было такое непонятно откуда взявшееся ощущение, что уж лучше (моя) смерть, чем вот это.
Что я думал тогда про Димона, каким видел его — даже не столь важно, да я и не помню точно. Речь о том, что я оказался на его стороне, вот и всё. Безоговорочно. Против целого мира? Против совести? Ну, вышло, что так.
Через много лет.
Было.
Вот что.
А именно — смутная и мутная догадка: он мстил — кому, судьбе, жизни? За несчастные любови? Или он от ревности так жестко взял (у меня?) Женю. Бывают же чувства, которые сметают на своем пути всё, просто всё. (Как экскаваторы Собянина.) Из институтской программы по зарубежке во мне глубоко засел (почему, кстати?) диалог Генриха Наваррского с королем, который был голубым, и почти весь (королевский) двор вслед за ним кинулся долбиться под хвост. (Вот как для карьеры вступали в такую мерзость, как КПСС). Ну, кроме Генриха. Тот решил сказать королю слова поддержки; уж какие смог найти, такие и сказал:
Читать дальше