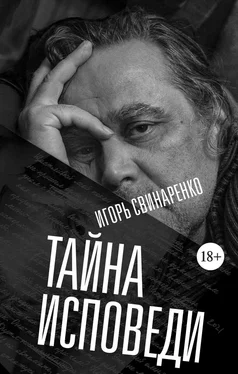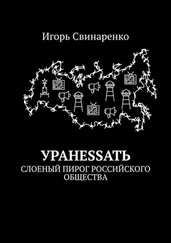Если бы у меня была гарантия ну или хотя бы уверенность, что мы встретимся с ним там, в аду, где держат ушедших в побег из этого мира. То я бы… Но были серьезные сомнения: а вдруг мы там не пересечемся и встречи не будет? Смысл ада еще и в том, что там не будет с тобой любимых людей, — иначе что ж это будет за ад такой? Это только про рай и про путь в него пишут, что умирающий встречает там своих близких, включая кошек и собак…
К тому же я — и не только я — не был до конца убежден, что он сам решил свой вопрос. Что собственноручно вернул билет. А вдруг это всё не так? Хорош был бы я, если б всё бросил и поспешил в ад — и на месте узнал, что Димона там нет. Ха-ха.
— Да ты просто придурок! — сказали бы мне черти. — Любим таких. Вам тут тебе самое место. У нас есть специальное отделение для тупых.
Вот это был бы ад так ад! Безукоризненный, идеальный. Вот тот самый, про который писал Грэм Грин (в Heart of the Matter), то есть приписывал эту мысль полицейскому капитану, персонажу по фамилии Скоби. Что-де ад — это не раскаленные сковородки, но вечное чувство страшной потери. И так — до нового big bang. Я переводил на некой тусовке в CERN, и физики там рассказали, как видят это всё. Всё начинается с того, что некая точка, в которой собрана в сжатом виде вся материя Вселенной, этот первоатом, вдруг начинает разворачиваться, расширяться, из него создается наш мир, а потом, через пару миллиардов лет — взрыв, и опять всё собирается в точку.
— И сколько раз так уже было?
— Не знаем! Это за пределами нашей науки.
— А с чего вдруг эта точка начинает разворачиваться во Вселенную?
— И это за рамками физики.
— То есть это может сделать некий творец? Бог, к примеру?
— Нашей науке это не противоречит. Ну, допустим, Бог…
Я готов был поспешить в ад, но только в свой, такой, каким его видел я. Торопиться в чужой — не было резона. Обычно, то есть часто, люди возвращают билет на почве несчастной любви. Которая тоже как раз тогда имела место, но не волновала меня уж прям чтоб ах. Ну, ужас, но не ужас-ужас. Просто жизнь дала трещину, не более того. Не было чувства, что это конец света! Не впервой, — думал я, — выкарабкаюсь! А так, конечно, все сопли-вопли, как положено…
А вот внезапно оборванная дружба, в юности — это другое. Как будто половина меня уничтожена, и я стал одиноким сиамским близнецом. Мне приоткрылись какие-то темные глубины, в которые страшно было заглядывать, оттуда несло горящей серой, той, какая спалила преступные города… Их жителей в старые времена не украшали флердоранжем и уж тем более не венчали, но это — дело прошлое, его уж не вернешь.
Вдобавок ко всему я стал безработным и впал в унизительную нищету. Документы мои почти все, смешно сказать, понимаю, как глупо это звучит — по случайности сгорели в сарае у подружки. Одно цеплялось за другое, другое — за третье, и никакого просвета не видно было. К тому же поиски выхода требовали энергии, которой мне в те дни редко хватало даже на то, чтоб встать с дивана, точнее с раскладушки. Но самое главное в жизни, про что я тогда еще начал догадываться, — это не здоровье, и не везение, и не ум, и не деньги, а совсем другая штука. Которую нельзя измерить и пощупать. Называется она — интерес к жизни. Без этого ничего не работает и не считается. Ни-че-го. А как раз интереса-то и не было. Я с облегчением и, как думал тогда, с последней радостью думал, что всё можно решить, все мои проблемы, причем окончательно — одним рыпом. (Слово «рып», кажется, из суржика.) Сдерживало меня вот как раз то, что вместо Димона я встречу там одних только чужих.
Из-за этого страха я и остался жить.
Страх — это то, что может спасти, когда уже не на что надеяться.
… Там, на берегу, у того теплого ночного моря, кроме Димона с его подружкой была еще одна девица. Ее звали Женя. Ее конические пальцы этак изысканно утончались к ногтям, к кончикам. Эта деталь меня почему-то сразила. (Опять, в который раз, вспомнился Набоков.)
— До чего ж красиво! — подумал тогда я. Это меня неожиданно возбудило. Маникюра у Жени, кстати, не было, так как-то всё, по-домашнему.
Кроме пальцев, к Жене меня тянули ее чистые глаза. В ней было мало женского, кошачьего, сучьего, но зато — много человеческого. И вот от этого ее взгляда я был как будто немного не в себе. От нее шло, как я сейчас понимаю, некое самоотверженное, даже жертвенное излучение. Виктимность — как в учебнике криминологии! Мы с Женей непроизвольно произвели обмен сигналами, то есть не мы, а наши подсознания, подкорки. Да, меня к ней тащило как канатом, но, скажу сразу, у нас ничего не случилось. Почему — поди разберись, особенно теперь. Я послал ей сигнал «Ты прекрасна!». Она ответила — мысленно — веселым одобрением. Ну вот это купание в ночном море… Потом еще пили и вели беседы ни о чем, в которых главным были эмоции. Какие? А такие, что мы приняли, утвердили друг друга и были готовы если не на всё, то на многое. Нам было по 17 лет, и мы были далеки от.
Читать дальше