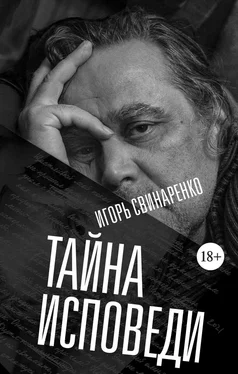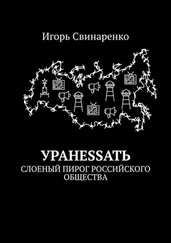Ту войну, если уж про нее говорить, Набоков отбыл глубоко в тылу, и немцы казались ему всего лишь несимпатичными, вот и всё. Но таки они его допекли, достали, как и много кого. Тот его знаменитый пассаж про берлинский трамвай — написанный, впрочем, в 20-е — очень хорош. У него была, если он не врал, к немцам «смутная, скверная, тяжелая ненависть… за этот низкий лоб, за эти бледные глаза… за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за толщину задов у обоего пола… за отсутствие брезгливости… за склонность к мелким гадостям… за мерзкий предмет, аккуратно нацепленный на решетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца; за жестокость во всем, самодовольную, как-же-иначную… (Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него, — покуда тот не вынул из кармана номер васильевской „Газеты“, равнодушно кашлянув с русской интонацией.)»
Да и кто у нас любит немцев? Тот пусть первый бросит камень.
Я — иногда бывает как-то больно про это думать — даже выпивал с их фронтовиками. Просто мы оказывались в компании, эти люди были чьи-то родители или соседи. Ну не вставать же, не выходить, хлопнув дверью, получи, фашист, гранату на прощание — ну в самом деле! Ведь прошло много-много лет, много всякого утекло. И забылось.
Или взять Мюнхен.
Вспоминаю летние субботние утра там, бездельные и сонные, и солнечные, когда на улицах свежо и звонко. И вот в такое утро перед завтраком плывешь в бассейне, какие обыкновенно устраиваются на крышах богатых отелей, смотришь на город, раскинутый внизу, а там — чистая отмытая зелень, тихие деликатные трамваи, черепичные крыши, башни и башенки, соборы, страшно знакомые многим по Риге, выстроенной немцами же… И вдруг примечаешь вдали, над обрезом крыш, уже в небе — как будто облачка, тучки, в которых белое с почти черным. Но стоит присмотреться, понимаешь: ба, да это Альпы! Белое — снег, а темное, что казалось мрачной водой внутри тяжелого облака, — густая зелень сосновых лесов. В ясную погоду горы видны особенно хорошо. Альпы! Слово-то какое. Так и тянет к себе. А в чем проблема? Взял машину, сел, поехал — и, грубо говоря, через 40 минут ты уже в предгорьях, в баварской глубинке. Сельская местность, холмы и перелески, яркая глубокая зелень, шпили аккуратных сельских церквей, тут и там крестьянские здоровенные дома, крытые тяжелой красной черепицей, палевые бычки на пастбищах, отмытые до блеска новенькие трактора, сияющие автомобильным лаком что твои «мерседесы». Густой прозрачный воздух, крепкий запах трав и свежайшего навоза.
И самое главное — тут Альпы уж совсем близко, их почтительно рассматриваешь, глядя снизу вверх.
Гуляя по тамошним лесам, заглядывая в деревеньки, я как-то остановился у приметного темного обтесанного камня — большого, в человеческий рост. Всмотрелся… На камне — барельеф со страшно знакомой угловатой каской и штык-ножом, и двумя как бы мальтийскими крестами: один — здоровенный, другой — поменьше. Что ж это такое? Я подошел еще ближе и прочел: «Община Grainbach — павшим героям. 19141918». О как… Странно думать, что кому-то те немецкие солдаты, в сегодняшних терминах — военные преступники, агрессоры, убивавшие нас, — кажутся героями. Еще удивительней то, что немцы, оказывается, открыто об этом говорят. И выбивают эти слова в камне, и отливают их в металле. Гм. Еще мощней оказалась надпись на большом кресте: «В память о героях». Мощней — оттого, что тут же выбиты годы, в которые герои оставляли о себе память: «1939–1945». Похоже, тут, в немецкой глубинке, в стороне от модных туристских маршрутов, где все — свои и нет смысла притворяться и валять дурака, — местные решили позволить себе говорить, что думают. Нравится нам это или нет.
В ГДР ветеранам той большой войны, само собой, не позволяли вот так говорить о своем героизме, а разрешалось им только посыпать головы пеплом. Кстати, именно там, в Восточной Германии, про фашистов вспоминают с куда большей теплотой, чем на западе страны. Ну и?… Я не знаю, что «и». Но меня это задело. Слегка. Можно спросить: а отчего это я так нейтрально отнесся к немецкой памяти о героях Второй мировой? Честно скажу: не знаю. Может, оттого, что дальше слов у них это дело сейчас не идет? И интонация, с которой сказаны эти их слова, очень спокойна и ни к чему не обязывает? А может, и другие какие причины можно найти, если задуматься, покопаться в этом…
Меня же там больше впечатлило, раздосадовало все-таки другое. То, что на коротком этом отрезке дороги, всего-то пять километров, я насчитал 11 распятий! Деревянных, в человеческий рост и выше. Они тут и там стоят на этих проселках и тропинках, с интервалом примерно так в полкилометра. Кресты эти с Иисусом — бесхитростные, наивные, самодельные, простые такие, уж точно им далеко до художественной ценности. Куда там… Какие-то неизвестные крестьяне изготовили эти распятия и поставили их на виду. Вроде ж простые люди, деревенские — а откуда такая глубина? Что же это за вызов? Вызов кому? Message наверх? Шибает по мозгам! С чем это сравнить? Что может похожим манером пронзить путника на русском проселке? Поди знай. Ну не облезлая же статуя Ленина?
Читать дальше