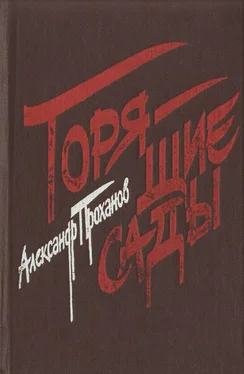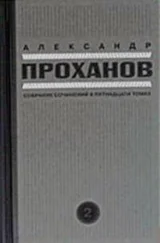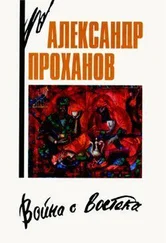— Мой друг, мистер Маквиллен, несколько дней как из Претории. Прошу. Советник советского посольства мистер Старцев. Режиссер из России мистер Бобров, книгу о котором, дорогой Маквиллен, вы почти выхватили у меня. Надеюсь, вы найдете сегодня время обмолвиться о ней с самим автором. А теперь, господа, хотя бы на время оставим политику. Прошу к столу.
Ужин был обилен. Вино в меру охлаждено. Женщины сверяли свои английские впечатления, вспоминали о Пикадилли, о лондонских магазинах. Старцев приглашал профессора в Москву, обещал содействие в визе. Тот соглашался, говорил, что в новых условиях путь из Хараре в Москву может оказаться короче, чем в Преторию. Все смеялись профессорской шутке.
После ужина гости вновь разделились. Женщины отправились смотреть розариум, подсвеченное разноцветье кустов, откуда лились бархатные, многослойные ароматы. Профессор и Старцев курили, обсуждая последнюю реорганизацию кабинета. А Маквиллен и Бобров, не сговариваясь, улыбаясь издалека остальным, вышли на веранду, где стоял зеленый ломберный столик и лежала колода карт. Остановились у столика. Маквиллен легким ударом рассыпал колоду, и она легла по сукну, стеклянно-блестящая, рассыпалась королями и дамами, черно-алой геральдикой. И у Боброва мимолетное воспоминание: бабушка после обеда доставала маленькую, любимую колоду карт и, очень серьезная, сосредоточенная, раскладывала пасьянс, и мать, и он, внук, ей не смели мешать, наблюдали ее священнодействия. И ему было удивительно смотреть на рождавшуюся витражную картину, где, казалось, таится его судьба и судьба его матери, брезжущие сквозь цветные, создаваемые бабушкой сочетания.
— Я не удивился, мистер Бобров, встретив вас здесь, помня наши недавние беседы в Мапуту. Мы ведь и собирались здесь встретиться, — Маквиллен держал его книгу, и рука инженера скользила по суперу, касаясь портрета. Бобров лицом чувствовал эти скользящие прикосновения. — С огромным интересом читал книгу. Хотел понять, кто тот человек, что намерен рассказать миру об Африке, о моей стране, о моем доме и, в сущности, обо мне.
Он пригласил Боброва садиться. Тот молча подчинился его жесту, сел, слыша, как время выстраивается посекундно в нарастающее ожидание, движется в ритме монолога Маквиллена, и его, Боброва, существование подчинено его интонациям и звучаниям.
— Все-таки вы удивительные люди, — продолжал Маквиллен, кивая на книгу. — О вас говорят, что вы материалисты, прагматики, безбожники. А я, читая вас, еще раз убеждаюсь: это вы — самый настоящий идеалист, почти богослов! Простите мне эту шутку! Сквозь ваши рассужения об эстетике, о миссии художника дышит прямая вера! Вера в чудо! Чуть ли не во второе пришествие. Мир катится в преисподнюю, в погибель, и об этом свидетельствует экономика, реальная политика, реальное военное дело, реальная человеческая психология, а вы проповедуете чудо! Некое, в итоге всего, возникающее идеальное бытие! Наступающий золотой век человечества! Мы все доживаем последние дни, готовимся превратить мир в кровавую горячую котлету, а вы прогнозируете цветение. Ваш будущий фильм будет о том же? О цветении? Здесь, на юге Африки, где уже началось первое действие Страшного суда? Меня это, признаюсь, ошеломляет. Либо это мистификация, — он снова кивнул на книгу, — либо в моем опыте, в моей природе отсутствует некий элемент, дающий ключ к пониманию вашей веры.
Он положил книгу на зеленое сукно, обсыпал ее картами, и Бобров смотрел на свое оттиснутое на обложке лицо в окружении валетов и дам.
— Хочу сообщить, я покинул ЮАР. Да просто сказать — удрал! В данный момент вы говорите не с инженером, не с представителем фирмы, а с частным лицом. Я продал свой дом и увез семью. Здесь, в Хараре, я для того, чтобы закруглить ряд финансовых дел и продать кое-какую принадлежавшую мне недвижимость. Я — частное лицо и как таковое симпатизирую и сочувствую вам, добровольно рвущемуся в это пекло, откуда я, как мне кажется, успеваю вырваться с минимальными для себя потерями.
Бобров не перебивал. Слушал как бы в прострации, ловя приближение некоего звука, который еще не звучал, а только намечался, высылая вперед свое отражение.
— Я выбирал, куда бы уехать, где бы скрыться от бойни. Где поставить мой дом так, чтобы ночью можно было держать окно открытым и не ждать в свою спальню очередь. В Европу? О нет! Она очень скоро превратится в термоядерную Калахари, и ходи по ней, подбирай в золе цветные стеклышки от Кельнского собора или железные катышки от Эйфелевой башни! Только не в Европу! Может быть, в Соединенные Штаты? Я думаю, очень скоро самыми счастливыми там станут те, кто похоронен на Арлингтонском кладбище. Селиться там все равно что селиться в печи огромного вселенского крематория, а это меня не устраивает. Африка? Здесь все безнадежно. Нарастающая нестабильность в масштабе всего континента. Даже Нигерия, я — знаю, накопившая жирок на своих нефтедолларах, несет в себе потенцию гражданской войны, и я не завидую тем моим соотечественникам, кто откочевал в Нигерию. Может быть, Латинская Америка? Но она — синоним кровавой революции, уже начатой, уже затеянной. Из Сан-Сальвадора, из Манагуа она спустится вниз, в Бразилию, в Чили, в Перу. Кто хочет быть застреленным в своем доме, пусть едет в Латинскую Америку. Может быть, Азия? В Кампучию, сажать цветы в черепа вместо цветочных горшков? Или в Пакистан, под тень висящего на перекладине Бхутто? Нет, я выбрал Австралию. Я решил поселиться в Австралии в расчете на то, что туда, может быть, не залетит шальная ракета и китайские дивизии еще не скоро дойдут до Сиднея. Я уезжаю в Австралию. Моя семья уже там, и я, слава богу, скоро за ней последую. Я надеюсь провести мою старость в тишине за чтением книг, которые не успел прочитать, охотясь за черными боевиками, рыская по Соуэто или строя ловушки профсоюзным функционерам на угольных копях Виртватерсранда. Впрочем, все это было прежде. В последние годы я занимался другим.
Читать дальше