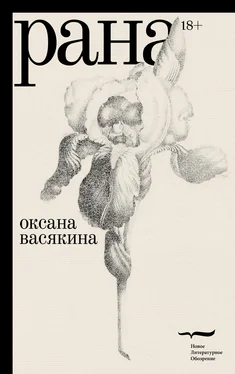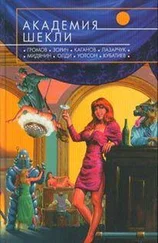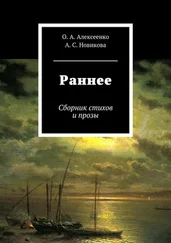После нашего путешествия в Астрахань отец пропал на шесть лет. Потом, когда у всех стали появляться мобильные телефоны, он позвонил домой в Усть-Илимск. Несколько лет мы вели с ним переписку и созванивались раз в месяц. Он работал дальнобойщиком, и Волгоград был одним из его постоянных пунктов доставки. Иногда он грузился в Волжском, расположенном в тридцати километрах от Волгограда. Я жила в Москве, и мой телефон вечно был недоступен, поэтому иногда они с мамой созванивались, чтобы выяснить, кто из них последним говорил со мной. Когда Андрей ушел от мамы, отец как раз позвонил ей, чтобы выяснить, куда я пропала. Они прожили вместе еще два года. Нельзя сказать, что мама была счастлива с ним. Их решение жить вместе мне показалось инерционным и принятым от безысходности. Так оно и было. Когда я приехала в Волжский, чтобы повидать их обоих, мы купили разливного пива, сушеной воблы и пошли прогуливаться. Мы встали у бетонных перил над поймой, расстелили небольшую газетку, разлили пиво в маленькие пластиковые стаканчики и разломали рыбины. Пиво было теплое и совсем выдохшееся, день – душный, безветренный. Мы не говорили между собой, отец только покряхтывал, глядя над поймой. Мама пыталась улыбаться. Мне было не по себе, мы были чужими друг другу людьми. И я была для них еще более чужой, чем они друг для друга. Потом отец умер от СПИДа. Когда отец умер, мама на улице случайно встретила Андрея. Он утешил ее и остался жить с ней до ее смерти, еще на пять лет. Наша усть-илимская квартира наконец продалась, и мама на эти деньги купила однокомнатную малосемейную квартирку на окраине Волжского. Там она умирала.
В детстве я всегда ждала день маминой зарплаты. Утром мы просыпались и шли сначала в банк, а потом – в долгий путь по Усть-Илимску. Сначала в жэк на самом краю города, у стадиона. Жэк занимал первый этаж бывшего малосемейного общежития для спортсменов. В нем всегда было влажно, зеленоватый свет ламп красил лица. Мы шли туда молча, зимой – мимо сугробов по черной обледеневшей бетонной лестнице, выпуская пар изо рта. Можно было дышать так, чтобы на ресницы попадал пар, и они покрывались белым нежным инеем, как у снегурочки. Ноги мерзли, но я об этом не говорила матери. Мы шли рядом, и я знала, что потом мы пойдем на рынок и купим еду. Самой любимой едой была вареная колбаса. Только в дни зарплаты мама позволяла себе отрезать кусочек колбасы и есть ее без хлеба. Это был такой маленький праздник, во время которого по возвращении с мороза мы раскладывали на столе купленную снедь. Сало, нежные яблоки, яйца, крупы, оранжевый солоноватый мягкий российский сыр и колбасу. Мы возвращались еще до захода солнца, мама стояла спиной к окну и резала колбасу без разделочной доски, прямо на столе. Это было против правил, но в день зарплаты можно было даже резать без доски. Она поддевала красивым длинным ногтем ломтик розовой колбасы, поднимала его высоко и как-то по-особенному, торжествующе кормила сама себя. Я пишу «кормила сама себя» именно потому, что в эти моменты она как бы разделялась на две части, руки и голову. Рука была кормящей, она цепко держала кругляшок колбасы на уровне глаз. А голова с тяжелым квадратным подбородком, как животное, подстраивалась под эту колбасу, хватала ее зубами. Мама улыбалась, она любила колбасу без хлеба.
Она стояла спиной к белому сибирскому солнцу, вся в свете зимнего заката и ажуре кухонных занавесок. В шелковом халате баклажанного цвета с запáхом, подведенными тонкими бровями и блестящими золотыми цепочками на белой шее, усыпанной родинками. Я любила ее, обожала, желала длить эти получасовые пиры. Мама была как свет и вся состояла из света. Она смеялась и кормила себя вареной колбасой. И я ела эту колбасу. Колбаса была сладковатая, мне нравилось, как зубы разрезают ее упругое тело. В эти минуты мне одновременно хотелось плакать и ликовать от счастья.
Мы были вместе, мы долго шли по морозу, бродили по рыночным закоулкам вместе, вместе выбирали еду. Я смотрела, как мать прищуренными глазами рассматривает мешки с рисом и гречкой, словно хочет просветить эти мешки насквозь, увидеть запрятанные внутри подгнившие зерна и мелкие камни. Я видела, как она просит один за другим поднимать и показывать ей куски свиного сала с толстой кожей, которое она посолит с чесноком. Женщина в заляпанном жирными коричневыми пятнами полиэстеровом синем фартуке с рюшечками недовольно поднимает куски сала, и мать рассматривает их очень строго, а потом ласково просит завернуть ей вон тот, на котором не так много жира и побольше алого мясца. Мать смотрела на еду оценивающе, торговалась с мужчинами, женщинам сдержанно платила по счету на грязных калькуляторах. А я смотрела на то, как она статно возвышается в своей коричневой дубленке над грудами продуктов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу