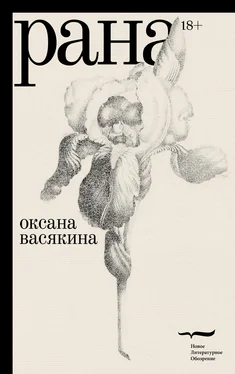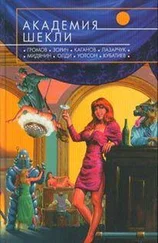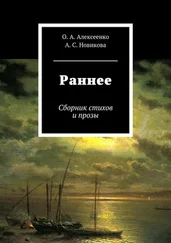В январе, когда мама стала умирать, мне стало ясно, что мое триумфальное возвращение в Сибирь будет теперь не таким триумфальным. Конечно, оно сохранило ритуальный характер, но логика моего движения и чувствования изменилась. Все перенастроилось на траурный лад. Моя дорога превратилась в дорогу матери.
Теперь я сидела в своей московской квартире на проспекте Мира и смотрела в одну точку. Весь мир схлопнулся. Все, что я строила и воображала, стянулось в одну серую металлическую урну. Нам предстояла остановка длиною в два месяца. Дырочка, проколотая на карте. Нужно было чем-то себя занять. Я воображала себя австралийской аборигенкой, которая сидит под крохотным тентом в пустыне мира и, поглаживая свой ритуальный объект, боится двинуться с места, потому что любое движение приносит мучение и сдвигает пространство в неверном направлении. Любое движение бессмысленно, время здесь – главный объект наблюдения.
То, что мама собралась переезжать из Усть-Илимска в Волжский, меня нисколько не удивило. Ей тогда было около сорока трех лет. Она уволилась с завода, раздала комнатные цветы, продала дачный участок, выставила на продажу нашу двухкомнатную квартиру. Мама собрала все, что ей принадлежало и было нажито за двадцать пять лет. Стиральную машинку, мягкую мебель, стулья, столы, кухонные полотенца, погрузив в большой контейнер, отправила в Волжский. Месяцем позже уехала туда сама. В Волжском ее ждал Андрей, который ждал ее всю жизнь, он предлагал ей встречаться еще до моего рождения. Тогда они вместе работали на заводе, она – сортировщицей, он – водителем. Мама ему отказала, он женился и завел детей, а потом и вовсе уволился с завода. Иногда он таксовал недалеко от нашего дома, и когда видел маму, шедшую на рынок или остановку, предлагал ее подвезти. Мне уже было около двадцати, когда мама с горем пополам, силами Ж. и Андрея выставила Ермолаева из нашей квартиры.
Выставлять Ермолаева я сама пыталась лет с четырнадцати. Но после каждого скандала меня мучило горькое чувство вины за все сказанное ему в лицо. Мама же, привыкшая быть битой, униженной и не знавшая, как выбраться из этого ада, от вопроса, почему мы не можем выгнать его, только плакала. И честно отвечала: она боялась остаться одна. Сохранились фотографии тех времен – она, отечная, грузная, с красными пятнами на лице и шее, улыбается тусклой жалкой улыбкой, на ней безразмерный сиреневый халат. Я нашла эти фотографии, когда по маминой просьбе перебирала альбомы. Карточки стопкой выпали из клапана старого альбома, и мне стало не по себе. Я так долго не хотела помнить те времена и мою великолепную маму, до этого всегда блиставшую на семейных праздниках в маленьком черном платье, а теперь ставшую рыхлой, тяжелой, невыносимой, жалкой. Я быстро собрала фотографии и спрятала их обратно в альбом. Но душное, топкое чувство, которое появляется, когда вспоминаешь то, чего помнить категорически не хочешь, охватило меня. Я подняла голову на умирающую маму, посмотрела на нее, на ее искаженное болью лицо, на ее серые руки. И мне стало остро жалко тех лет, что она потратила на этого ублюдка. Она жила так, словно время никогда не закончится, а когда жизнь ее стала другой, время вдруг стало очень быстро заканчиваться. Быстро-быстро, как вода в треснувшем стакане.
К слову сказать, Ермолаев к моменту маминой смерти был уже мертв. Умирал он долго и мучительно, он гнил заживо. Когда я узнала о том, что с ним произошло, я искренне, звонко захохотала, потому что желала ему смерти много раз. Иногда мне хочется думать, что это я его убила силой своей ненависти. Но все было еще проще и прозаичнее: во время большого застолья в честь своего сорокалетия он крепко обнялся с братом, и тот нечаянно, из братской любви и нежности, как-то по-особенному сломал ему шею. Дальше за него решила провинциальная медицина: сначала врачи сулили ему инвалидное кресло, потом совсем ничего не обещали и напоследок просто забыли о его существовании. Когда его жене с большим трудом и истериками удалось ворваться в его палату, она обнаружила, что пролежнями покрыт даже его лоб. Сердце не выдержало, в легких скопилась жидкость, слабая печень сдалась, и, не дожив до сорока одного года, он умер.
Но пока он не умер и жил с мамой в нашей квартире, должен был появиться какой-то другой, отдельный человек. Им стал Андрей. Андрей, как всегда, таксовал на пятачке у остановки «Дружба», когда увидел маму. Мама стояла, ждала автобус и курила. Андрей подкатил к ней на серебристой «Ладе Приоре», опустил стекло, приподнял фуражку и галантно предложил подбросить ее. Потом предложил ей быть любовниками. Они были уже очень взрослыми, им было по сорок лет. Он уже давно ее любил, и она согласилась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу