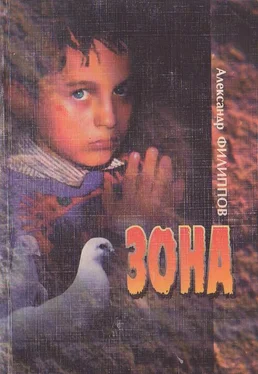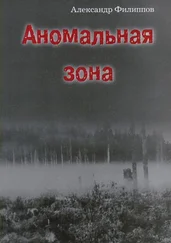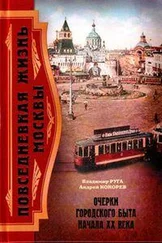— Да вот, — шепотом отозвалась Маруся, — слыхал небось? Поселок сносить собираются…
— А… — успокоился Сашка, — я-то думал… Давно пора!
— Ты! — вскинулся вдруг отец, но не нашел слов и только смотрел на сына — озлобленно и отчужденно.
— А чего! — не унимаясь, напирал Сашка, — хватит! Надоело зимой в уборной задницу морозить! Пора и по-людски пожить. С детства, все пацаны на улице, а я только и слышал. Сашка, воды натаскай, Сашка, марш огород полоть! Все к трудолюбию приучали… А я, между прочим и без вашего трудолюбия о-о-очень даже прожить могу. Я этой редиски вашей на базаре за рубль досыта куплю. Мне, может, легче лишний час в цеху отработать, чем в огороде ишачить!
— Саша! — прикрикнула мать, видя, как побледнел Николай, как скомкал он недописанное письмо и швырнул на стол, поднимаясь. Николай встал из-за стола, медленно приблизился к сыну.
— А чего?! Не так, что ли?! — струсив, крикнул Сашка. Отец молча повернулся и, сутулясь, вышел из комнаты.
Потом он долго бродил в саду, хлюпая валенками по мокрому снегу, а из-под снега в проталины пучилась навстречу яркому солнышку черная, удобренная земля, и на ветках яблонь искрились прозрачные, холодные капли побежавших по стволам соков. По сугробам Николай добрался до забора, поднял оторвавшуюся за долгую зиму доску, но подумал немного и, подержав сырую, тяжелую доску в руках, бросил опять в снег…
В мае Сашке прислали повестку из военкомата.
— Ты, батя, не волнуйся! — весело говорил остриженный наголо и оттого еще больше вытянувшийся в рост Сашка. — За мною жилплощадь по закону сохраняется, я узнавал. Так что, когда снесут вас, и на меня комнату получите. Эх, жаль, жениться не успел, а то бы отдельную квартирку отчекрыжил!
Николай молча выслушивал сына, кивал и опять уходил в сад, где уже во всю цвели яблони, а земля — черная, жирная, все еще дожидалась его, и смотреть на эту ровную, кое-где заросшую сорняком землю Николай тоже не мог…
Маруся решила созвать гостей — проводить Сашку. Вечером, накануне, она попросила Николая:
— Ты бы, отец, трех курочек зарубил. Лапши сварю да картошки нажарю… Прямо не знаю, что и готовить-то… Может, завтра с утра Димку на базар послать? Пусть хоть лучку зеленого купит, редиски какой-нибудь…
— Незачем, — сердито мотнув головой, твердо сказал Николай, — свое забросили, так теперь нечего у чужих куски перехватывать. Ждите, пока в магазинах появится…
На другой день собрались гости. Из деревни родня понаехала, друзья Сашкины пришли. Не нравились эти друзья Николаю — длинноволосые, с цепочками на тощих мальчишеских шеях, в пестрых цветастых рубахах. Маруся ведро самогонки сварила, разлила по бутылкам из-под водки, с этикетками — вроде как только что откупорили, но все равно пахло в доме тяжелым сивушным духом, и запах этот раздражал Николая. Он сидел в зале на продавленном, горбатом диване, кивал гостям, улыбался деревенской, много лет не виданной родне, а сам все думал, думал…
— Отец, ты что же гостей к столу не зовешь? — окликнула его Маруся, и Николай встал, растерянно и смущенно посмотрел вокруг.
— Проходите, садитесь… — сказал он и сам сел за стол.
Водку Николай не любил, а потому с непривычки захмелел быстро и все лез к шурину, толкая его под руку и бормоча:
— Вишь, Авдей, растут ведь заразы… Сашка-то… Да ты знаешь Сашку-то маво? В армию идет нынче… Во как! А меня того, сносят… Сносят, говорю!
Шурин кивал, а Маруся бегала из кухни в зал, подавала, и Николай, глядя на старые, щербатые тарелки с холодцом, вспомнил вдруг, как покупал их с получки, в новый дом, и удивился тому, что помнит.
Включили радиолу, поставили пластинку, и Сашка, бесстыдно прижимаясь к полноватой пьяненькой девчушке, подпевал пластинке фальшивым и дребезжащим голосом:
«Ты мне танец обещала
В этот листо-о-пад!»
Алевтина тоже выпила рюмочку и сейчас, облизывая липкие от курятины пальцы, смотрела удивленно на Сашку, а потом вдруг заплакала, прикрыв лицо бумажной салфеткой, и все стали успокаивать ее, гладить по плечам, а она все плакала и плакала, пока братья-погодки, тоже принарядившиеся в пестрые цветастые рубахи, не увели сестру в спальную.
И видел Николай, что и Сашка, и погодки стесняются Алевтины перед своими сопливыми подружками и, хотя привык к этому, вдруг обиделся и крикнул через стол:
— Да она… больше всех вас понимает, вы!
Запьяневшая родня шумно встала из-за стола, мужики пошли в сад курить, радуясь встрече и выпивке, шутили и раскатисто хохотали, а бабы по хмельному состраданию опять кинулись в соседнюю комнату успокаивать Алевтину. Молодежь отодвинула стулья и теперь вихлялась возле радиолы, потряхивая цепочками и волосами, и Сашка, выпивший больше других, кричал, нелепо и не в такт, размахивая длинными руками:
Читать дальше