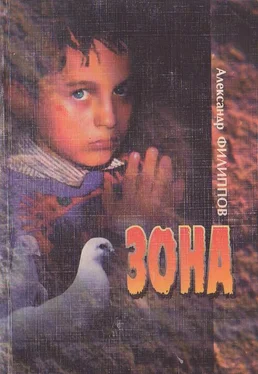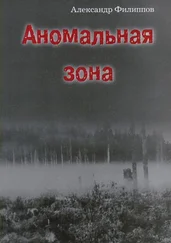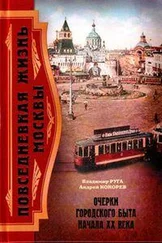— Пошли… По телевизору есть что хорошего?
— Да съезд опять, соловей меченый трепаться будет… — весело засуетился Петька, и огонек цигарки запрыгал, замигал в темноте…
И они пошли, шагая привычно по знакомой дороге, тем более, что дорога-то была одна, к дому. Заливисто брехали собаки в дальнем конце села, утробно заворчал трактор вблизи — раз, другой, и затих, остывая… А уже заморосил, застучал по остаткам листьев мелкий холодный дождик, посвистывал ветер, сея густые, туманные капли, выглянула на миг луна — тонкая, как буква «С» — и спряталась испуганно в черном провале неба…
… И ненастье пришло…
Дом свой Николай поставил поближе к заводу, на окраине города. Прямые широкие улицы с рядами одноэтажных каменных домов заводской постройки обрывались здесь, выходя прямо в степь, а дальше, уже в степи, стайкой рассыпались частные особнячки, отгороженные крепко сколоченными, доска к доске, заборами и палисадниками с кустами акации и сирени. Мимо домиков тянулась проселочная дорога к заводу, а сам завод — большой, с длинными, приземистыми железобетонными корпусами цехов — дымил вдалеке одинокой трубой из красного, прокопченного кирпича, и по утрам, зимой и летом будил городскую окраину требовательным гудком. Днем по проселочной дороге поднимали клубы тонкой, невесомой пыли грузовики, с лязганьем и грохотом катились трактора, а к вечеру движение замирало, успокаивалось, и завод тоже дремал, попыхивая трубой и светя далеко в степь огнями цехов ночной смены.
Степь вокруг завода еще оставалась кое-где нетронутой, полынной, но уже тут и там среди буроватой высохшей травы виднелись невесть кем брошенные и забытые бетонные плиты, груды битого кирпича, проржавевшие трубы и разный заводской хлам. По вечерам здесь бродили бездомные собаки, галдели ватаги окраинных мальчишек, привычных к играм на просторе и свалках.
Летом над степью надолго повисало жгучее солнце, горячий ветер монотонно свистел среди пустынных улиц рабочей окраины, и пропыленные, пожухлые от жары листья редких деревьев бросали на высохшую до трещин землю куцые, дрожащие тени.
Когда Николай, косолапо и мелко ступая шел по дороге через бурую, заросшую высохшей полынью степь, то жена, Маруся, уже издалека примечала его и предупреждала с деревянного крылечка детей:
— Эй! Оглашенные! Отец с работы идет, живо руки мыть и за стол!
Николай звякал щеколдой калитки и шел через огород — приостанавливаясь, наклоняясь над грядками и тыча в землю толстым шершавым пальцем. Подходя к дому, Николай, не глядя на жену, садился на теплые ступеньки крыльца и говорил сердито и скучно:
— Что ж ты, мать! Земля-то в грядках совсем сухая!
— Скажешь тоже… — привычно возражала Маруся, — давеча пораньше огород поливали…
— Знаю я ваше «пораньше». Небось, после обеда улили. Сгорит все к чертовой матери, в жару-то поливать! Я ведь специально и спросил. Вижу — сырость кругом, ну, думаю, не иначе как в жару поливали. И точно! Нет, чтобы пораньше глаза продрать или с вечера, как порядочные люди делают…
— Ладно уж… — примирительно отвечала Маруся, — ничего ж не сгорело… Ну, пойдем, что ли… Я на стол собрала, остудится.
Николай, нагнувшись и раздраженно сопя, стаскивал тесные, покоробившиеся ботинки. Затем он снимал потемневшие от пота носки и, вытянув красные, истертые ноги, шевелил под набежавшим ветерком влажными пальцами.
— Совсем уходился! — жаловался он сердито жене. — Сколько раз просил: давай, мол, на заказ обувку сошьем — так где ей! Ей и дела мало, что мужик столько лет мучается…
Николай ставил раздутые, потерявшие форму ботинки на солнцепек, носки цеплял за гвоздик в крыльце и, тяжело встав, шлепал босиком в дом.
На кухне за столом уже сидели чинно ребятишки. Старший, восьмиклассник Сашка, сосредоточенно водил по клеенке ложкой. Погодки, Димка и Алешка, — курносые, стриженные наголо, смотрели перед собой и прятали под столом перепачканные и невымытые руки. Младшая, Алевтина, увидев отца, улыбалась конфузливо и, подойдя, терлась щекой о вылинявший отцовский пиджак.
— Иди, иди, сейчас есть будем, — говорил ей отец и, погладив дочь по растрепанным косам, шел в сенцы, умываться.
На столе перед каждым стояла серая алюминиевая миска, лежали горбушки хлеба. Мать резала хлеб так, что горбушек хватало всем, разливала по чашкам дымящееся варево. Ели молчаливо, не торопясь и опустив глаза.
Потом отец выходил во двор. На крыльце надевал драные и оттого свободные на ноге галоши и направлялся в огород, а оттуда по узкой тропинке в сад. В саду он подходил к яблоням, щелкал плоским ногтем по особым, привитым позапрошлый год черенкам и удовлетворенно шел дальше, в глубину сада, где возле зарослей малины притулились курятник и сарайчики — с поросенком и кроликами. Толстые белые куры бродили по пристройке, сделанной из переплетенной проволоки, шивырялись желтыми клювами в охапках свежей травы. В разрезанной вдоль автомобильной покрышке стояла мутная, коричневатая вода. «Сменить надо воду-то», — думал Николай и присаживался на груду корявых бревен. Он сидел так бездумно, закрыв глаза и привалившись усталой, накланявшейся за день у станка спиной. Заводской шум и грохот постепенно отпускал его, становилось тихо, покойно и сонно. Жужжали серые мухи, надоедливо перелетая с потной груди на лицо, но Николай только подергивал то губой, то плечом и фыркал утомленно и равнодушно. Он мог сидеть так долго, прислушиваясь к шороху и кудахтанью кур за оградой и мирному, сытому похрюкиванию поросенка в сарайчике…
Читать дальше