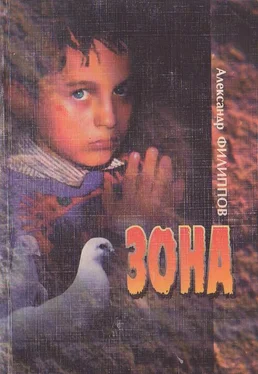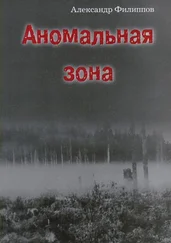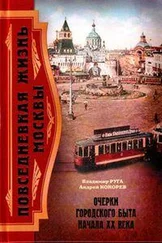Взглянув на часы, Виктор Михайлович спохватился, торопливо сполоснул под краном руки и, глянув мельком в окно — нет ли дождя, а потом еще раз — на стены, вышел из дому. Привычной дорожкой, через огороды, перепрыгнув выкопанные давным-давно неизвестно зачем траншеи с обрезками ржавых труб, добрался до амбулатории, где по причине ранних осенних сумерек уже горел свет. Вечерний прием на время уборочной начинался в восемь вечера, и Виктор Михайлович опять привычно и недовольно подумал о том, что главврач района тянет со сменой графика работы, перестраховывается; но, втянув пахучий, с призрачным, горьковатым дымком воздух, зябко поежился от вечерней прохлады и подумал уже по-другому — что, в сущности, совсем не плохо пройтись вот так, вечером, по холодноватой пронзительно и умиротворенно тихой улочке, замерзнуть чуть-чуть, а потом, острее почувствовав тепло и уют, отходить от легкого озноба в маленькой приемной, прихлебывая черный грузинский чай из ничейного бокала, где бесфамильно красовалась ярко-зеленая по голубоватому фарфору, не стареющая за столько лет надпись: «Передовику урожая-63». Попивая во время приема чай, Виктор Михайлович немного кокетничал, рисовался, но эта маленькая вольность, не мыслимая в гудящей суете больших городских больниц, тоже приятно радовала.
— Тэ-экс! — оживленно потирая руки, как виденный в каком-то кинофильме доктор, приветствовал Виктор Михайлович больных, и все закивали в ответ — смиренно, будто радовались случившейся вдруг болезни — не опасной, не докучающей особо, но вносящей в жизнь некоторые заботы.
По заведенному еще три года назад порядку Виктор Михайлович долго и тщательно, будто перед операцией, мыл руки, потом промокнул полотенцем и, вернувшись к столу с разложенными заранее карточками больных, попросил негромко, зная, что его обязательно услышат:
— Зино-о-ок! Сооруди-ка нам чайку…
Фельдшерица принесла бокал, а Виктор Михайлович, помешав сахар, постучал о край бокала алюминиевой ложечкой:
— Граждане больные, прошу входить!
И было все тихо, неторопливо… Фельдшерица Зина, сдвинув очки на кончик носа, обстоятельно записывала в карточке жалобы, что-то пришептывая, а на стене стучали размеренно ходики, булькала в стерилизаторах вода, и за прикрытой дверью вполголоса переговаривались больные.
Когда очередь дошла до Петьки Калагина и тот, морщась, размотал на руке покоробившуюся от крови тряпицу, Виктор Михайлович, посвистывая, оглядел рану, подавив на края пальцами, а затем, напевая: «Петька, Петька, петушок, пьяный ты паршивец», — вновь стал мыть руки, бросив через плечо:
— Зино-о-ок! Шить!
Накладывая швы, Виктор Михайлович напевал тихонько:
— Петька, Петька-петушок, травма в пьяном виде-е… Он больничный не получит… — задумался, подыскивая рифму, а затем выдохнул радостно: — Мы его обидим!
Петька охал и тихо матерился сквозь зубы.
— Зина! Йода ему! — игриво прикрикнул Виктор Михайлович, и когда фельдшерица отошла, пропел Петьке: — Сбегай, Петька, за бутылкой, вечерок хоро-о-оший!
Петька ушел, баюкая одеревеневшую от новокаина руку. Виктор Михайлович вышел в полумрак приемной:
— Кто у нас остался?
Никого не было. Прием закончился.
Черное окно запотело влажно, и было видно, какая густая тьма навалилась там, во дворе, и опять было все тихо-тихо…
— Ну, Зинок, я пошел, — сказал фельдшерице Виктор Михайлович. Набрасывая на плечи старенький плащишко, крикнул: — Закроешь тут потом! — и шагнул в черный квадрат распахнутой в темный осенний вечер двери. Осторожно шаря ногой по ступенькам, спустился с лестницы. Было почти морозно. Ярко светились квадраты окон близлежащих домов, слева, на угадывающейся степной дороге, покачиваясь, тянулись оранжевые точки фар припоздавших машин, и оттуда, из степи, веяло уже леденистым, предзимним, посвистывал тревожно невесть откуда налетевший ветер, и было слышно, как гудят провода над невидимой дорогой.
В ночи приглушенно кашлянули.
Виктор Михайлович обернулся, узнал по белеющим зыбко бинтам:
— Петька?
— Эт я, Вить. Пошли, что ли? — в руках Петьки что-то едва слышно булькнуло.
— Да я ж пошутил, дурачок! — хмыкнул добродушно Виктор Михайлович.
— Ладно, не нужен мне твой больничный, один хрен на ремонте… — Петька закурил, покашлял.
— Только, слышь, айда к тебе, а то у меня баба злая — вчера проштрафился малость…
Виктор Михайлович поежился и, радуясь вновь вернувшемуся чувству — светлому, покойному, — кивнул огоньку Петькиной цигарки:
Читать дальше