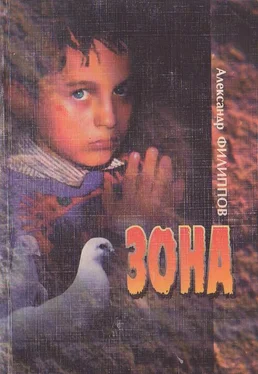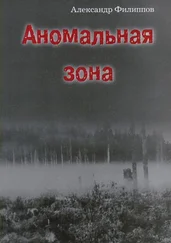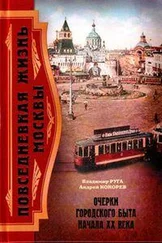— Мелочь. Ерунда, — пренебрежительно машет он рукой на мой вопрос. — Есть одна — «День Победы» — не могу сыграть! Пальцы не те стали, трудно. А песня стоящая.
Темнеет. Появляются звезды. Тихо — только свежий вечерний ветерок шелестит в листьях кленов над головой. Дядя Миша уносит аккордеон, возвращается.
— А помру — так ругайте меня, — неожиданно говорит Мария Кузьминична. — А то наживем, напакостничаем и — брык! И золотые мы, и раззолотые, дескать, после смерти-то… А вона Катька умерла — воровка и пропойка. Что же, и она золотая была?
— Может быть, жизнь у человека так сложилась, — пробую возразить я.
— Черта с два! Жизнь… Избаловались… Один паразит наделает делов — так защитнички тут как тут: ах, отец пьяница, ах — дружки затянули… причины… Сажать больше надо.
— Кого? — спрашиваю я.
— А этих, у которых причины. Штоб другие гадить боялись. Я вона у Машки ведро угля сперла — тоже причины? Дурь одна и жадность.
— Бога забыли! И ты тоже, Маруська! — назидательно поднимает палец Вера Гавриловна.
— Ах ты, богомолка выискалась! — поворачивается к ней Мария Кузьминична. — Стукнуло за шестьдесят, так икону в угол нацепила! Хоть знаешь, какой рукой креститься-то надо? А туда же: «Бога забыли…», — презрительно передразнивает она.
— Покойников не ругают. Этот, как его? Кто-то сказал: о мертвых, мол, хорошо вспоминай или заткнись, — говорит дядя Миша.
— Я не заткнусь! — распаляется Мария Кузьминична. — Ругать надо! Так, мол, и так, жил ты свиньей и помер, и черт с тобой! — Она встает и, сердито стукая по земле клюшкой, уходит.
Отойдя немного, Мария Кузьминична натыкается на толстого вислоухого щенка. Щенок юлит хвостом и, перевернувшись на спину, дрыгает лапами, приглашая поиграть.
— Дурак ты, дурак… — бормочет Мария Кузьминична и, кряхтя, наклонившись к щенку, щекочет пальцем его розовое голое пузо. Следом за ней расходятся по домам и остальные. Мы остаемся вдвоем с дядей Мишей. Я угощаю его сигаретой, он закуривает и неодобрительно покашливает:
— Баловство, а не курево. Папиросы лучше. Кури «Беломор» — туберкулеза не будет, — поучает он меня.
— Курить вообще вредно. Слыхали про лошадь? — улыбаюсь я.
— А сам-то куришь? И все врачи курят!
Мне возразить нечего, и я в который раз твердо обещаю бросить курить.
— Вон, — говорит дядя Миша, — забулдыга идет.
В темноте, спотыкаясь и пьяно хлюпая, бредет Федяков. Это еще один житель дворика. Меня он сразу невзлюбил, наверное, потому что я отказался с ним пить.
— А я тебя на дармовщинку выпить зову! Угостить желаю! — кричал он, рухнув на ступеньки крыльца. — А ты брезгуешь! Челове-е-е-к!
Федяков — тощий, грязный мужичонка. Во всех его рассказах фигурировали два главных события его жизни: первое — это «как я мать в дом престарелых сдавал» и второе — «как я мать из морга забирать ходил». С бесчисленными вариациями эти рассказы тянулись до бесконечности.
— А ну, кончай орать! — прикрикнул на него дядя Миша. — Иди дрыхнуть!
Федяков икнул в темноте и пересел поближе к нам.
— Ты… это… дядь Миш… не думай чего… я мать любил, а в дом престарелых сдал потому, что какая у нее жизнь со мною, с пьяницей.
— Ну и шел бы к чертовой матери отсюда, посоветовал ему дядя Миша. — Мы бы за Клавкой сами присмотрели… сдал… в дом престарелых… тебя бы в зоопарк сдать!
— Н-н-е трожь! Ты меня не трожь! — завопил Федяков. — Я, когда мать ходил в морг забирать, мне врачи сказали… — и начался очередной надоевший и страшный рассказ.
— Пойдем, — предложил мне дядя Миша, — он теперь до полночи будет здесь бормотать. А мать его, Клавдия, — интересная бабка была. Когда, значит, Николашку-то скинули, ну, тут ликбезы разные открывать начали. Читать научились кое-как. Вот пошла раз на базар и приносит книжку, толстую такую. Граф Толстой написал, «Анна Каренина», слыхал? Так она эту книгу по складам лет двадцать читала. Прочитала и опять начала. Мы что-нибудь разговоримся или рассоримся, а она кричит: «Читай, мол, „Анну Каренину“, там про все написано». Ее так и звали, Клавдию, Анна Каренина. А когда помирала, заказала нам книгу эту в гроб к ней положить. Наверное, чтобы, значит, на том свете читать. Понятное дело, темная неграмотная старуха.
Дядя Миша замолкает, достает папиросу.
— Ты, Васька, иди, а то поздно уже. Будешь в темноте спотыкаться по нашим закоулкам, — говорит он мне. Действительно, пора. Я встаю, прощаюсь и ухожу из дворика, погружающегося в тихий, спокойный сон.
Читать дальше