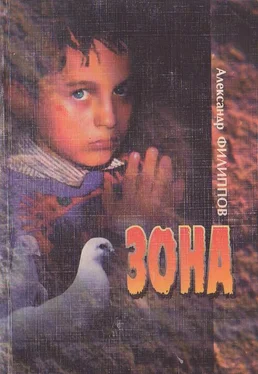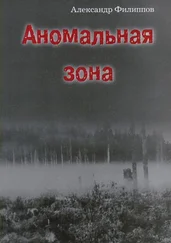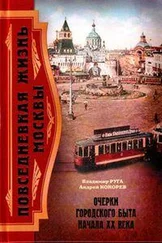Окликала Маруся, и Николай, потянувшись устало, с хрустом, нехотя поднимался и шлепал галошами по тропинке.
— Коля! Ты взгляни, что эти оболтусы набедокурили! — визгливо кричала на детей Маруся, и Николай шел, смотрел и тоже бранился — назидательно и длинно…
Детей Николай не баловал. Игрушки — и те сам делал. В прошлый раз машину грузовую из кусков алюминия склепал, а недавно домик смастерил фанерный, да не простой, а со стеклами и лампочкой внутри. Зимой под елку поставит, батарейку подключит, и пусть горит окошечко…
Все хорошо было у Николая. Даже мотоцикл приобрел, у начальника цеха за пятьдесят рублей купил. Мотоцикл назывался «Харлей Девидсон», английского производства. Бог весть как попал он к начальнику и лет двадцать ржавел в гараже без толку. Николай с ним долго возился, да и теперь возится: то коробка передач полетит, то зажигание…
Зато как хорошо на душе было у Николая, когда он выкатывал свой подновленный, свежевыкрашенный черной блестящей краской мотоцикл и тарахтел по окраине города на завод. Потом, правда, на работу ездить перестал: мотоцикл увидели все, кто нужно, да и ставить его там негде было: на второй день кто-то зеркальце снял и люльку поцарапал.
Ездил теперь Николай по вечерам в степь за травой для кроликов. Мотоцикл, покашливая сизым дымком, катился по белесоватой дороге в сиреневую, сумеречную степь, и облачко мошкары, непостижимо как, висело все время у лица, не отставая. Мотоцикл трещал, подпрыгивая на кочках, а темнота наваливалась все гуще. Пронзительнее, прохладнее обдувал тело тугой ветерок, забирался за ворот, под рубаху и холодил грудь. Свет фары метался впереди желтым пятном, выхватывая на мгновение из ночи скачущих наискось по дороге тушканчиков.
И когда возвращался Николай домой, то и дома, во дворе, пахло терпко пыльными степными цветами, и Маруся, стоя на ярко освещенном крыльце, вглядывалась в темноту, заслышав знакомое урчание мотоцикла…
Зима в пригородном поселке была тягучая, скучная. Двор заваливало сугробами и, выходя рано утром, затемно, Николай разгребал заметенные дорожки, срезая деревянной лопатой тяжелые пласты снега. Маруся уже растапливала печь, и Николай, уходя на завод, каждый раз оглядывался на свой дом с облаком белого, недвижного дыма над трубой и желтыми, посеребренными изморозью окошками. И в эти минуты ему больше всего хотелось вернуться, сбросить подшитые кожей валенки, сесть на кухне, возле гудящей жаром печи, мастерить что-нибудь по хозяйству, неторопливо переговариваясь с Марусей, а потом дремать в чистой комнатке на диване — днем, когда за окном светло, бело и морозно… Но Николай шел через выстуженную степь, снег визжал, скрипел под валенками, и вмерзшая в черное звездное небо луна далеко впереди нависала над сверкающей и пустынной дорогой…
Так и жил Николай, и жизнь его будто растянулась в один длинный, наполненный заботами день… И странно — тихо и незаметно скользило время, и лишь иногда Николай оглядывался назад и с удивлением замечал перемены. Уже подзастроили кое-где степь новыми крупнопанельными домами, пустили невдалеке троллейбусы, в округе стало многолюднее, и теперь неудобно было, как в прошлые годы, зайти в магазин — прямо с огорода, в пропотевшей майке и драных калошах. Начали поговаривать о сносе, ходили слухи, что завод поломает особняки, а на их месте построит два девятиэтажных дома, и Николай, тревожась и распаляя себя, говорил Марусе: «Я дом свой губить не дам. До Москвы дойду, в тюрьму сяду, а сносить не позволю!» Но слухи оставались слухами, проходили годы, и Николай успокаивался, забывал и опять жил размеренно и тихо…
Взрослели дети. Сашка закончил техникум, братья-погодки поступили в профессиональное училище при заводе, и теперь уже четверо, когда совпадали смены, топали гуськом через степь по привычной дороге.
Однажды, ближе к весне, почти забытые слухи подтвердились: летом поселок будут сносить. В этот день Николай пришел домой злой и растерянный, долго фыркал над умывальником, а потом, не поужинав, сразу принялся сочинять письмо — в Москву. Кому и куда писать, он не знал, но все равно упрямо черкал на бумаге крупные размашистые буквы, и Маруся, присмирев, заглядывала из-за мужниного плеча в исписанный листок.
Вошел Сашка — худой, узкоплечий — и, увидев отца, поинтересовался озабоченно:
— С чего это наш батя за писанину взялся?
Николай промолчал, сильнее сгорбился над укрытым белой скатертью столом, засопел, сосредоточенно водя по бумаге ручкой.
Читать дальше