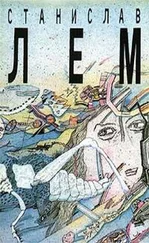Жаль, что впечатлениями так сложно с кем-то поделиться. Как же много набралось у Влады в жизни вещей, про которые некому сказать: «А помнишь?», как же много Влада с Никитой испытали вдвоем за эти годы, сколько всего хранилось в их общей – и только их – памяти! А помнишь поездку на осликах на Родосе, когда я кричала: «Ослик, ты что – осёл?»? А водителя автобуса, который командовал: «Go, go», призывая пассажиров не толпиться у дверей? А как нам греки вызывали такси на Филеримос? А каталонские танцы в Калелье? А как мы ехали из Малаги в Михас через горный перевал по серпантину и шофер на ходу обнимался с какой-то девицей? А как в Лимассоле совершили экскурсию в горы с гидом-водителем Паникосом, семьей сухопарых англичан и толстой египтянкой, которая села напротив них, чтобы, как она сказала, «уравновесить» машину? Как Паникос рвал для нас тимьян? Можно было перечислять бесконечно, но мешали слезы. Грустно, когда становится не с кем разделить воспоминание. Можно только рассказать о нем кому-нибудь, но этот кто-нибудь не сможет увидеть, услышать, почувствовать все так, как это было на самом деле, как бы красочно и подробно Влада не описывала. Он не сможет оказаться внутри. Да и зачем оно ему, это чужое воспоминание? И не щелкнет этот выключатель, когда ты мгновенно оказываешься там: слышишь истошное мяуканье павлинов на горе Филеримос, выбираешь губки в маленькой лавочке на острове Сими или пьешь виски, накрывшись брезентом, на катамаране, идущем в шторм из одного испанского городка в другой.
Влада поняла, что ей обязательно нужно написать об этом, потому что она не может держать все эти воспоминания в себе. Только вот как, как сделать это так, чтобы читатель все это увидел, почувствовал, услышал запах, осязал? А главное – чтобы оно имело для него смысл? Да и где он, этот воображаемый читатель? Пиши не пиши – всё равно ее книжки, и эта рукопись тоже, в конце концов окажутся на помойке.
Забавно, кстати, что текст, набираемый на компьютере, называется рукописью.
В школе, помнится, бывали такие задания – сравнить произведение с черновиком. Можно было проследить ход мысли поэта: как он менял слова, ища самое точное для выражения своих чувств. А еще Владу поразили фотографии черновиков Пушкина, когда она их в первый раз увидела, поразило то, как там все почеркано. И картинки на полях. «Это, – сказала учительница, – он рисовал, когда обдумывал, что написать, и мы теперь можем понять, о ком или о чем он думал, когда сочинял эти строки».
А сейчас черновика уже не существует. Нет зачеркнутых слов и профилей на полях. И физическая радость письма тоже пропала: где взять то чувственное наслаждение от соприкосновения пера с бумагой, какое было раньше? Влада до сих пор помнит, как выбирала в магазине авторучку и чернила к ней (поначалу ей нравились синие, потом фиолетовые, а потом черные). А бумага? Мама – она дружила с завхозом – иногда приносила с работы финскую, белую-белую.
Влада долго не переходила на шариковую ручку, хотя в институте это уже было разрешено. Но потом пришлось, чтобы писать для подруг конспекты лекций под копирку. Да и неудобно как-то было, что у такой взрослой девушки вечно пальцы в чернилах. А теперь? Теперь она стучит по клавишам и, может быть, поэтому ее собственные слова кажутся ей чужими и, перечитывая, она их не узнает. А может быть, просто с возрастом слабеет память.
Мы будем первым поколением, что не оставит от себя следов.
Павел Субботин
Уехать бы куда-нибудь что ли, на какой-нибудь остров, ну хотя бы на год. Возможно, тогда удастся сосредоточиться и что-то сделать. Без телефона, без интернета, без людей… Нет, в принципе, конечно, уезжать не обязательно: я мог бы просто запереться, оборвать провода и не реагировать на раздражители. Но слишком сложно отказаться от мысли, что, может быть, если ты будешь везде мелькать и во всем участвовать: в конкурсах, флешмобах, коллективных выставках, не брезгуя библиотеками и клубами; если станешь своим в тусовке, где иногда появляются известные люди, – тебя заметят, и ты попадёшь в обойму. Потому что без этого, будь ты хоть гений, все равно так и помрёшь в безвестности, и даже посмертная слава тебе не грозит. Вот и участвуешь во всех конкурсах – от международных до местного трамвайного депо, – суешься в каждую бочку.
Ведь что такое сейчас фотография, и кто сейчас не фотограф? Все вокруг снимают, причем разве что не на утюги. Интернет просто трещит от фотографий – плохих, посредственных, хороших, иногда, на мой взгляд, гениальных, но автор какого-нибудь замечательного снимка, как выясняется, – никому не известный имярек, у которого даже ни одной выставки не было и, скорее всего, не будет… А какую-то фигню покупают за миллион долларов. Тупик да и только! Нужно ходить на вернисажи, заводить тысячи «друзей» в Фейсбуке, делать умное лицо на чужих выставках, выпивать на брудершафт с «великими», которые тебя наутро уже не вспомнят… Вот и крутишься, хотя, по большому счету, не веришь в то, что тебе повезет. А работать-то когда? Когда остановиться и подумать о том, что ты делаешь?
Читать дальше
![Инна Шолпо Рукопись, найденная на помойке [litres] обложка книги](/books/430938/inna-sholpo-rukopis-najdennaya-na-pomojke-litres-cover.webp)