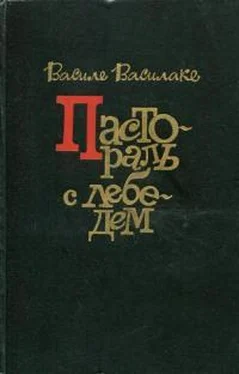Опять тетю Наталицу не узнать, как подменили. Страх ей смелости прибавил? Или боль душевная? Кто скажет, откуда берется женское притворство… Пусть поведает ковыль в утренней росе, тяжелой, как вдовьи слезы. Не он ли твердил: «Жизнь человеческая — былинка»? И где истина, почему молчит? Или тоже притворяется?
— Ну, пойду я…
Анна-Мария постояла нерешительно, тихо вздохнула:
— Ох, помоги, матерь пресвятая богородица-а-а…
Поможет ли ей пресвятая мать?
«Или ковыль-насмешник выручил бы женщину… — думаю я, теперь уже дед с Иммануилом Кантом в седой башке. — На ковыль уповать, на Канта? На кого надеяться, если силы в человеке на исходе — на комья глины у дороги, высохшей после дождя? На серую землю в трещинах? Или на солнце, пока светит?..»
— Иди, иди! — подгоняет Анну-Марию тетя Наталица. — Ступай и не бойся, мир не без добрых людей. — И одергивает юбку: — А то и мне пора, свечек прихватить да на кладбище…
На кладбище тихо, слышно, как шоркают о землю лопаты. Яма для могилы почти готова. Копали по очереди два брата Сынджера, из всей оравы самые сговорчивые, Георге Лунгу — ну, ему сам бог велел и мама на свет родила всеобщим заступником, и Михалаке Капрару. Он так и не очухался после ярмарки, доконало кресло лавочницы Рухлы на акации перед церковью. Старик кружил до утра вокруг сторожки, ночных духов гонял, а на рассвете подхватился и без устали, как заведенный, стал рыть могилу.
Солнце поднялось, когда явился Василе Бану с несравненной цуйкой под мышкой. Не здороваясь по обычаю, заговорил:
— Кто его знает, может, оно и так, может, и этак… Давайте, работнички, за упокой души! — Поставил бутылку на краю ямы и от щедрот своих воодушевился: — А что сейчас было — умора! Хе-хе… Сидел вчера и думал: «Господи, пути твои неисповедимы, какими чудесами мир полнишь!» — Мария-то Магдалина евангельская, слыхали? — шлюхой уличной была… А ее в святые определили! Что ж получается? Идем мы в церковь грехи замаливать и первым делом ей, грешнице, ноги целуем…
У большого сиреневого куста зияет яма в рост человека… Святая была потаскухой?! Заступы и кирки обмерли от такой новости… Святая?!
— Анну-Марию знаете, сноху старика Гебана? Из Унцешт родом, за Митрикэ вышла…
Лица копавших серы от перелопаченной земли, измучены бессонной ночью. При чем тут чьи-то снохи? Бану уточняет:
— Та, что причитала, ну? Георге, — повернулся он к Лунгу, — ты же был вчера в поле. Митрикэ-то, говорят, нос задирает, в капралы пробился. А дом их у самой долины, по соседству со Скрипкару…
— Покороче, дядя!
Младший Сынджер со всего маху вогнал лопату в землю, аж рукоятка задребезжала.
— Так она с наградой уже! — дернул плечом Бану, будто вот-вот пиджак сползет. — Иду я к звонарю — узнать, вернулся ли батюшка Думитру, а он навстречу, из примарии… Ну, дела! Фэлиштяну, бывшего председателя, засадили под замок — зачем раздавал землю голытьбе! Ну и вот, заходит звонарь в сени, а из кабинета примаря женщину выносят, еле дышит. В обморок упала, в кабинете… Больная, что ли? Нет, говорят, награду получила. Надо же — ее поздравляют, а она — хлоп! — и на пол. Звонарь говорит: «Не по силам, видать, награда, коли ноги не несут». А примарь: «Нет, — отвечает, — просто мозги куриные, ни черта в медалях не смыслит. Вызвал я ее и вежливенько говорю: «Примите соболезнования, то да се… На ваше имя поступила телеграмма от генерала-маршала его превосходительства господина Антонеску. Ваш муж Гебан Думитру, сын Иона, при взятии городишка Скуляны удостоился славы тех, что пали за родину и воссоединение румынской нации!» — И Бану ощерился: — Хе-е… Отхватила себе бабенка, а? Вместо мужика…
Михалаке Капрару как стоял в яме, так закатил глаза к небу и забормотал какую-то несуразицу. А братья Сынджеры ошалело уставились друг на друга, словно для самих себя рыли могилу.
Бану не унимался:
— На что хотите спорю: пенсию получит, — звонарь шепнул по секрету. Молодая, детей нет… Дура, чего бы я в обморок падал? Бабьи финти-минти… Да, слаб человек, давно говорю, то ли дело коза: хвост по ветру и доится… Ну, чего глаза вылупили, пейте, или зря принес?
…Много-много лет прошло, но по-прежнему поросло ковылем взгорье… Треплются по ветру белые клоки, как седые космы кладбищенского сторожа Василе Бану, и так же освистывают все, что подвернется. А я никак в толк не возьму: чего он хочет? Видно, не сговоримся мы с ним. Вон солнце, на что уж могучее светило, и то не знает, как подступиться, — заискивает, ластится, а ковыль знай себе подсмеивается и мурлычет:
Читать дальше