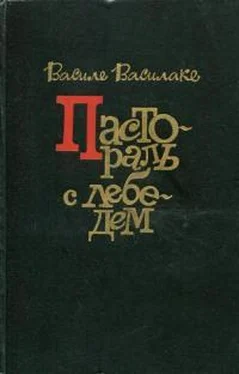Далеко ли путь держите,
Сестры, жизнь со смертью?
Побелела голова у старого ковыля,
Но не сжалится солнце, палит нещадно.
Если стороною обойдет коса —
Холода под корень скосят.
И ты, человече, рвешь меня без оглядки.
Зачем тебе ковыльный венец?
На, возьми и красуйся, безумец.
И я пеплом стал,
И я ветром стал…
Поди усни на моей груди…
Эй, жизнь со смертью, куда вы, куда?
Вот и весь ковыльный сказ… Что ж, пусть шипит по-змеиному, пусть тешится. Человек из другого теста сделан — полюбит, поплачет, приласкает… А когда не любишь да не плачешь, живешь ли?
Прожитые годы… Что о них сказать? Это та же трава! Ведь прошло время, и оказалось, Аргир жив-здоров, чего и нам желает, и шлет привет землякам. И не просто привет, даже просьбу передал через одного здешнего: если не трудно, пусть пришлет ему какая-нибудь добрая душа пару теплых носков.
В наших краях такие носки вяжут крючком из толстой грубой шерсти, выходит что-то вроде чуней. В холод и сырую погоду им цены нет, а не поленишься подшить подошву от валенка — совсем благодать, вроде босиком ходишь, а ноги, как в печке. Старуха Замфира Букэтару круглый год их не снимает, даже летом, и хвалится: мол, самый зверский ревматизм — как рукой…
— Вот те и раз! — удивлялись братья Сынджеры. — Мы тут плачем-убиваемся, в жандармерию нас затаскали, с допросами пристают: «Кому это в голову взбрело? Сделали из цыгана мученика румынской нации!» А он, гляди, ревматизмом мается. Иначе для какой надобности носки?
Не то в июне, не то в июле сорок пятого мы прослышали, что баде Аргир жив. Был самый разгар лета, и сельчане, особенно женщины, да и я, к тому времени подросток — в пятый класс перешел, — все диву давались: «Послушайте, кого же мы похоронили?»
Лето сорок пятого, словно голубь белый, слетело на землю, и вернулся к людям покой. И мы подумали: видно, приспело время такое — разметало людей по миру, а они, как птахи перелетные, тянутся к родным гнездам, весточки посылают: не забыли ли про них?
Ох и наделало шуму одно письмо, из Моравии! (Да, чуть не забыл, Аргир передавал просьбу свою из Кенигсберга.) Этому из Моравии тоже вздумалось потормошить своих — вот он я! А ведь как ушел на первую мировую, с тех пор о нем ни звука. Ну и ну, отмалчиваешься тридцать лет, и здрасьте: «Привет из Моравии! Как вы там, родичи, живы еще? А я заскучал…»
Послание пришло прямо на сельсовет, уважаемому товарищу председателю, лично:
«Я, Тудор Бузеску, — родственник всех, кто носит фамилию Бузеску, сын Георге, у которого были братья Онисим, Гаврил и Цезарь… Когда Царь Никулай взял меня на фронт в девятьсот четырнадцатом (этот гражданин из Моравии писал «Царь», как в былые времена, с большой буквы, а имя — по-домашнему, «Никулай»), отец был жив, и было у меня четыре сестры: Аника, Тудосия, Иляна и Варвара. В этот час мира, когда народы протягивают руку дружбы, ходатайствую перед вами, товарищ Совет, и прошу мне ответить: кто из рода Бузеску остался в живых и где они пребывают? Потому что имею великое желание свидеться с ними, услышать, обнять… или хотя бы послать им слово привета… Узнал я, каково оно, житье на чужбине. Несладко, дорогие мои! Точит и точит тоска по местам, где увидел в первый раз травку зеленую…»
Ишь, прыткий какой, от «травки зеленой» его слеза прошибает. А раньше где был?.. Ну и дальше в том же духе на шести листах. Читали письмо, перечитывали, а четыре сестрицы Бузеску хлюпали носами. Молодые посмеивались: «Хватит, бабули, сырость разводить. С чего сыр-бор? Напишите своему заблудшему баранчику, пусть приезжает, и привет!»
А сестры вытирали покрасневшие глаза, шикали на непутевых, вздыхали… Шутка ли сказать, тридцать лет, почитай, целая жизнь. Они уж и могилку ему определили, и крест поставили, как подобает христианину, все годы исправно ходили на кладбище, приглядывали, убирали… Не было воскресенья, чтобы во время службы поп четырежды не возгласил имя Тудора Бузеску, ведь каждая сестра вносила его в свой поминальник. Иначе и быть не могло — брат, родная кровь, единственная опора в семье… Столько лет вздыхали, взывали, а он словно в рот воды набрал, не откликнулся. И на небесах пустое место, и на земле, а сердца сестер разбиты…
Что же случилось? Выбился в миллионеры Тудор и стал родни гнушаться? Или в беду попал, отсиживал на каторге? Или… Да мало ли что, недосуг человеку, не выкроил минутки. Послушайте, а если кто чужой выдает себя за Бузеску?
— Да он это, он! — всхлипывали сестры Бузеску. — Вот, читай, вот пишет про яблоню-цыганку, перед домом росла, а на шелковице в саду, в глубине, еще мальчишкой привесил качели из веревок и летал «до самого неба»!..
Читать дальше