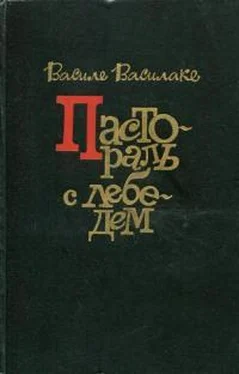— А придут с проверкой — скажу: «Здравия желаем, господин патруль! Разрешите доложить: на моем участке все тихо-мирно, граждане, как положено, спят мертвецким сном. Ах да, имеется пополнение, новичок — угодил намедни под шрапнель. Из наших, местный… Бедняга, ни кола ни двора… Ловил мотыльков в поле, попал под обстрел, зашел поплакаться — обидно, и мотыльки куда-то подевались, и хлопцу не повезло. Правда, не своим ходом добрался, но куда подашься, коли живьем свое отбыл? В компанию к тутошним! Вот и лежит-полеживает, приема дожидается к святому Петру-ключнику. А прием — это яма… а яму копать надо, и вижу я, господин патруль, самому надобно браться за лопату, потому как вы военные, и ваше дело воевать!» — Вдруг Бану запнулся, словно обмяк: — Эх, наша жизнь, бре… чтоб ей пусто… Чем черт не шутит, может, это и не Аргир!
Тетя Наталица охнула:
— Вы что, дядя Василе, лишнего хлебнули? Кого ж мы хороним?
— Э-э, Наталья, ты сперва поживи с мое да посиди на кладбище лет полсотни с хвостиком, да схорони полсела… наглядишься…
Тем временем скрипнула дверь сторожки. Мигнула лампадка, Бану прищурился: так и есть, знатные сапоги, хром первостатейный, надевались пару раз, не больше…
— Н-да, — угрюмо пробурчал он, — придется ему и обувь сменить, сам займусь.
Василе, как и Георге Лунгу, прошел в пехоте первую мировую, а какой солдат не знает — русскому сапогу износу нет! К тому же если твоя латаная-перелатанная обувка расползлась, правый вон каши просит… Разве это по-хозяйски — живому хоть пропадай, а мертвый в обновке?
Тетя Наталица вздохнула. Слава богу, потихоньку-полегоньку все становится на свои места. Аргира похоронят, притом по обряду, как христианина. Старик Бану тоже доволен, не остался внакладе — и цуйка, и сапоги… Харон что надо!
Что до жизни со смертью, то и они разбрелись по своим углам. А люди, прибежавшие по солнцепеку на взгорье, ворочаются сейчас на подушках, третий сон досматривают…
Расходимся и мы по домам, чтобы улегся наконец этот суматошный день. Тетя Наталица взяла меня за руку:
— Зайдем к маме, скажу — будешь у меня спать.
Дом ее пустой, темный… Неужели тетя боится оставаться одна?
В комнате она зажгла лампу, потом лампадку под иконами и села. Прислонилась к стене, сгорбившись, а руки утонули в складках подола.
— Спи, мой маленький…
Чуть я прикрыл глаза, как слышу: «Ионикэ, где же ты, сыночек?.. — и громче: — Пережить бы это лихо, господи! Дождусь ли?»
…И уже утро. Меня разбудил стук в дверь. Тетя так и не ложилась, все ходила по комнате, то прикручивала фитиль у лампы, то снова прибавляла света, что-то бормотала… Видно, ждала, не постучит ли тайком ее Ионикэ, раненый. Или, бог даст, цел и невредим воротится… Война войной, а о чем думает мать? Лишь бы сын жив остался. Войне-то всего три дня, никто не знает, чья возьмет… Господи, пусть он придет к маме своей, в дом, где родился!… А ведь в поле совсем другое говорила, повторяла сыновьи слова: «Помирать буду, мама, а от наших не отстану». Разве не гордилась своим Ионом? Откуда же в ней такая перемена…
— Кто там?
Слышно, как в сенях лязгнул засов.
— Лелика, ох… я это! Не знаю, что делать, в примарию зовут, лелика! Узнали, видно, что плакала там… в поле…
Голос Анны-Марии дрожит. Это она прибежала, запыхавшись, ни свет ни заря. А голос ее ни с чьим не спутаешь — зовущий и настороженный, чуткий, как ушко лесной косули.
Тетя проводит ее в комнату. Молчит. Потушила подслеповатую лампу: накоптила за ночь.
— Донес на тебя кто-то, точно! — наконец выговаривает она. — Неужели Бану?
— Ой, и что на меня накатило, ума не приложу! Ох-ох-ох… — сетует Анна-Мария.
— Ладно, погоди ныть…
Иначе тетя не может: стоит кому-нибудь попасть в передрягу, готова грудью встать на защиту.
— Кто за тобой приходил?
— Да вчера сколько раз звали! Искали меня, а я там была… знаете, где была…
Видится мне Анна-Мария такой, как в то утро: изможденное сухое тело, худое в рябинках лицо, щеку захлестнул черный платок… А тогда глазел из-под одеяла: «Да она совсем другая стала, не такая, как на взгорье!..»
— Примарем опять Горинчоя поставят, что в прошлом году был, — лепечет Анна-Мария. — Соседка сказала, все до единого вернулись из-за Прута: и писарь, и старший жандарм. Этот Горинчой, он свояк вам, лелика… Сходили бы со мной, замолвили словечко…
— Вот что. — Тетя обрезала фитилек с замигавшей лампадки, — Иди напролом и ничего не бойся! А спросят, почему плакала, скажи: «Такая уж уродилась, дура!» На том и стой. Сразу вместе придем — не поверят. А ты тверди свое: «Не могу видеть покойника, кто бы ни был, слезы текут. А везли солдата мертвого, вспомнила моего мужа, Митруцэ… как призвали на службу, так и канул, ни слуху ни духу… Где скитается? Может, в земле лежит… Что ж, и поплакать нельзя? — У тети лицо скривилось, как от плача, будто сама только что мужа потеряла. — Горе мне, ни муженька, ни деток, два года пропадает, куда вы его дели?! О-ох, Митруцэ мой, Митруцэ! Верните мне его…» — И, как ни в чем не бывало, наставляет: — Поняла? В случае чего пусть меня зовут, я им выложу. Бестолочи вы, скажу, сцепились по-собачьи, резать научились друг дружку, а как рожать — на нас все, на бабах?..
Читать дальше