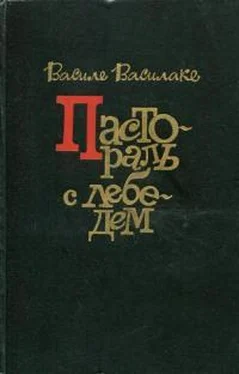Бог его не слышит: «Ась?»
«Ты что, туг на ухо стал? Зачем смерть, говорю, придумал?»
«А-а, вот чего тебе… Так спроси у дитяти своего!»
«У дитяти? А это что такое?»
«Это?.. Ну, то, что ты для меня… Кто-то…»
«Хм, кто-то, что-то… Ладно, попробую. Нет, подожди! Откуда сыну знать о смерти, если я сам не знаю?»
«А? Да, да, согласен… А твой сын пусть спросит у своего отпрыска, аминь!»
«Что-что? Что ты говоришь, отец, я не понял».
«А? Ага… Дети твоих детей пусть спросят у детей своих детей и т. д. и т. п. и аллилуйя! Смотри, какая-то тень рядом с твоей тенью. А я совсем уже того…»
Смотрит сын по сторонам, слышит за спиной своей серебряный смех. Это и была женщина!.. — Вздохнув, дедушка Пэвэлаке шел поднимать волов. — Это и была твоя пра-пра-пра-прабабка, Зинуца!»
И вот сегодня на неудавшемся свадебном сговоре внука Тудора Зиновии припомнился рассказ деда-книгочея. Конечно, старая притча обросла новыми толкованиями:
— Да, это оказалась женщина, Динуца. Дед мой называл ее имя на древнееврейском, да я забыла… Ты ученая, сама грамотная здесь, но вижу, не знаешь, для каких таких дел ждала земля женщину. И какие тяготы сразу на нее легли, и какая она, прости, глупая! Ибо все в руки ее, а иная только и умеет, что красить ногти серебром, как Люба Рыпуляса… Вот сидит голубчик, все-то он знает… — Зиновия посмотрела на притворно присмиревшего внука. — Расскажу вам, сватья, про наше дитя, среди юбок выросшее. Не потому ли у него язык так колюч? Не обижайся, Тудораш. Сначала пропали куда-то твои дяди, потом мы и тебя потеряли. Все мужики в нашем роду высоко себя ставили, гордыня их заела. Ты их только на карточках видел, там они юнцы, еще в школу ходили. Одна я вижу, как выпирает из них гордыня на тех карточках. И ты, детка, подумал бы сперва, куда родня твоя подевалась, из-за чего сгинула, а уж потом бы кричал, что тебя неволят. Послушай старую, милок, за всех тебе отвечу. Вынесли мы войну и голод, и мор, плечи согнулись, голова стала белая… Вот ты, внучек, встал и заговорил, а в устах кручяновская гордыня. Ибо вижу, одной ногой стоишь на своей лестнице от пожарки, а другую… Эге, на крышу мира занес! Пожара нет, слава богу, но я сама в кино видела: человек хоть и грамотный, а поест — и ботинками на стол! Сидит, на стуле качается. А тебя, говоришь, свадьбой заморочили… Разве мы собрались здесь твои укоры слушать, золотко? Были бы живы отец твой, дед или дяди, они б растолковали, зачем мы жили, как божьи коровки, плодились… Чтоб умереть? Один помер в окопе, другой прямо здесь, во дворе. Чего ради, скажешь? Я так думаю — ради тебя, да-да! Если засыхает дерево в лесу, бук там или граб, кому больше солнца достается? Подростышам, что рядом поднялись… Дед твой дома преставился, царствие ему небесное, привязалась болезнь-лихоманка. Сколько нам на долю выпало, один господь ведает, а ты говоришь, позорим тебя. Ты и в бога не веруешь, и не знаешь, почему приходит война… А зачем немецкая машина задавила твоего братика? Перед воротами нашими, на глазах у твоей матери. Ему и трех годков не сравнялось, красивенький был мальчонка… Может, знаешь, куда спешила эта машина? Потом она торчала вверх колесами на взгорье у города Хуш в Румынии, твой дед ее видел. Там он и своих лошадей нашел — уперлись подковками-звездочками в небо и лежали на обочине… Почему я деда вспомнила? Чую, опять нас одних оставишь с матерью, уж не знаю, придешь ли, когда умру… Хотя бы деда поминай, ладно? Теперь армия ничего не берет, а тогда двор ох как обчищали — хлеб, лошадей, подводы… Война — это тебе не драка в корчме, все по науке. И король тогдашний, Карл Второй, по науке, видать, кричал: «Да здравствует великая Румыния! Отдавай, сосед Ваня, Бессарабию!..» Пришел в Бессарабию, забрал у деда твоего подводу с лошадьми, чтоб поскорее добраться до Днепра и Волги, под Сталинград побежал. А что, Ваня в приволье живет, пусть потеснится маленько… Да по дороге Карл лошадей съел с хомутами вместе, да и извозчикам не поздоровилось. Быстренько, дед Скарлат, выводи другую лошадку и подводу к ней — опухли ноги у короля, не на чем вернуться домой. Ваня-Иван сзади поторапливает: «Давай-давай, Карл, некогда с тобой калякать, спешу с Катюшей в Берлин, на поминки к Адольфу…» И вот уже к деду во двор Ванюша приходит. «Ну, говорит, уважаемый Александру Скарлат, запрягай волов, надо скорей догнать Карла, пусть отдает обратно твоих лошадей — две упряжки забрал! Готово? Порядок. Только зачем пустой подводе трястись, грузи-ка ящики со снарядами, врежем ему сзади, по-нашенски! Кати прямиком в город Хуш». Доезжает дед со снарядами до Хуша — ни Вани с гармоникой, ни Катюши не слышно. Да и Карла след простыл, он уж не король больше. Зато лошаденки дедовы — вот они, уткнулись копытами в солнце, во рву лежат-полеживают. Санду мой не только по масти их узнал — по гвоздикам-ухналям, такими ковал лошадей Петря Крэснару в своей кузне. Что делать деду со снарядами, куда деваться с волами? Орудия бьют за Васлуем, поехали вверх по Дунаю, к Вене, а оттуда рукой подать до Берлина. И Ваня едет за орудиями, сидит на пустом гробу для Гитлера, играет на гармошке. Видит дед такое дело, сложил в траве снаряды, как поросят, повернул арбу — прощайте, снарядики и лошаденки, не поминайте лихом. Вспомнил дед: как там его дом? Где детки, летняя печка его, а над ней синий дымок и пар от мамалыжки щекочет ноздри, и я его жду не дождусь… Бывало, маковой росинки в рот не возьму — любила… любила смотреть, как он ест! Выходит, сильна женщина, магнитом притягивает…
Читать дальше