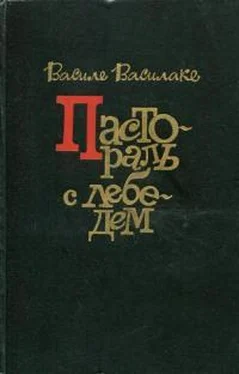«Слышишь, Руца, запел чибис… Неужели оттого, что вы с Георгием съели лебедя? Умер Георге… Что он сказал напоследок, фа Руца? Только тебе он мог все-все рассказать, до самого донышка, чем болела душа».
«Ой, баде Никанор, что вы… Женщину заботит, что про нее подумают, а не про кого-то. Разве я знала, как с Георге получится? Сердцем только чуяла… Вот и теперь слов нету, видать, и мой конец не за горами, позовет скоро Георгицэ, любимый мой…»
Никанор мотнул головой, встряхнулся, поморгал глазами, белесыми, как декабрьское небо: «Надо с тобой свидеться, Руца. Это Георге, наверно, сказал: «Прощай, пахарь…»
Никто ему не ответил, только овечка на ковре будто налилась красным цветом, и вместо чибисов замельтешили перед глазами летучие мыши, только кричали они по-чибисиному. «К дождю, что ли?» Потом и лягушки заквакали… И сжало тоской грудь у Никанора:
«Руца! Руца, где ты? Где Георге, Руца? Фермы не вижу, и вас больше нет, пруд стоит заброшенный, ночи холодные, одни нетопыри кружат над вашей любовью! И мне, стручку сохлому, только это и видно…»
— Я тогда от вас пришла, Никанор… — чуть не в ухо ему процедила Зиновия — ей показалось, зять засыпает. Бостан вздрогнул, повертел головой: на каком он свете? — Ты, Вера, как раз вернулась с этого… что там, съезд, совещание, не помню… Вижу, не показываешься, и пошла к тебе за желтым платком. Вернулась, слышу — пакифон. Ну, думаю, кому это весело в святой день понедельник? Бог-то в понедельник начал сотворять мир. Неужто под музыку сотворял? А пакифон я лет тридцать не слышала, еще когда попадье сметану носила. Теперь у людей радио да мехметофоны, пакифоны повыбрасывали.
Все стало на свои места. Исчез зеленый луг, лебединое озеро, и от линялого ковра с овцой, от мутного, обсиженного мухами зеркала с пожелтевшими фотографиями опять пахнуло скудостью вдовьего дома.
— Подхожу к воротам… Матерь божья, пакифон у нас играет! Ой, думаю, Тудораша из армии отпустили, май это был… Понедельник, все кругом зелено, пакифон на всю магалу сипит. А наш Тудор тогда подался в японский океан, рыбу ловить…
Василица, вспомнив, залилась краской:
— Из Владивостока его прислал, сватья Мара. Я ему писала, — Тудорел два года на рыбном промысле плавал, — пришли, говорю, сынок, патефон. За море много денег платят, прошу, купи матери. Как замуж вышла, все мечтала, чтоб в доме играла музыка.
Зиновия усмехнулась — наконец-то дочь-тихоня голосок подала:
— Ну, завела она музыку, сидит на ступеньках и ногой топает. Песню старую поставила, помню, я сама в девках бегала, ее уже играли. Осерчала, давай стыдить: «Ты в своем уме, Василица? Средь бела дня пакифон орет на всю окраину! Люди работают, на смех подымут». Из каса маре дочка Верина выглянула, старшенькая: «Тетя, можно еще послушать?» А Василица заливается: «Давай, давай! — и говорит мне: — Пусть поиграет, сегодня у меня праздник, мама, буду получать пенсию!» Что ты ей скажешь? «Глупая, говорю, до седых волос дожила, а ума бог не прибавил. Где твой сын? Ловит сетями зайчиков? Эй, Василица, радуешься пенсии да дурацкому пакифону, а сына навек потеряла…»
— Это еще почему? — спросил Тудор.
— Разве ты сегодня от нас не отказался? Ни почтения, ни уважения… мы тебя послушали, теперь и ты нас выслушай. Пришла пора расставаться… Облить бы сейчас керосином этот стол да поджечь, пусть хоть огонь угостится, ведь гости наши крошки в рот не взяли, ломтика не отломили. А кто и потчевался, так не впрок пошло после твоих речей. Кого порадовало это вино? Поднимали стаканы да мямлили бог весть что — разве так люди сроднятся? Душой отогреются? То-то и оно, никому не нужны оказались земные дары. Почему, внучек? А потому, что не поберег ты девушку, ее достоинство. Сам-то мастак про достоинство выступать… Или скажешь, достойней быть матерью-одиночкой, чем старой девой?.. Прости, Динуца, ты, внученька, теперь наша, а он — чужак, ибо отмахнулся, наплевал на любовь и уважение родных. Мог бы додуматься, раз всех учить берется: лишь то яблоко сладко, за каким карабкаешься на верхушку. Откушали гости нашего хлеба-соли… и отравились! Стали кривляться один перед другим, насмешки строить, самим на себя взглянуть было тошно. Выходит, мы собрались, чтоб… Да, чтобы чихнуть друг другу в лицо! Эх вы, ученые наши дети… Это мы с тобою, Дианочка, мы, все матери на свете, виноваты. Твоя свекровь попросила у единственного сынка пакифон. Ничего ей больше не надобно — дайте пакифон и пенсию! А чего хотела прапраматерь наша, самая первая, та, что в начале начал смеялась за спиной мужчины серебряным смехом? Тогда земля была не шире твоей шали, доченька, нашлось бы только местечко, где присесть и ноги высушить. Устал бог бродить все по воде да по воде, как и твой нареченный… Каково оно, в сырости бултыхаться? Стал бог-отец подумывать: «Где бы мне отдохнуть да голову приклонить?» Вдруг высморкался и сказал: «Да будет здесь твердь!..» И получилось что-то твердое. Нет, сначала не очень твердое, вроде болота, хлипкая полоска суши… Только она образовалась, выглянул один камыш и сказал:
Читать дальше